
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу.
Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Том 1.
VIII. Ярило.
Небесная гроза, с её бурными вихрями и дождевыми ливнями, обожествлялась литовско-славянским племенем в образе Перуна, память о котором до сих пор живо сохраняется у белорусов и литовцев. По летописному свидетельству, брошенный в Днепр идол Перуна поплыл по течению, “и пройде сквозе порогы, изверже и ветр на рене, и оттоле прослу Псруняна рень, якоже и до сего дне слывет”. Белорусы представляют его статным, высокого роста, с чёрными волосами и длинной золотой бородою; восседая на пламенной колеснице, он разъезжает по небу, вооруженный луком и стрелами, и разит нечестивых; а литовцы ещё помнят о девяти силах Перкуна и тридевяти его названиях. Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия. Земля, по народному русскому поверью, не растворяется ( = не открывает своих недр на рождение злаков) до первого весеннего грома, т. е. до выезда на небо Перуна в его громовой колеснице (= облаке). О животных, подверженных зимней спячке, говорят, что они не прежде пробуждаются, как после первого грома; с этим поверьем согласуется другое, что весенние ветры, дующие из ясени, разбивают почку деревьев: следовательно, и деревья начинают распускаться только с пробуждением бога-громовника, в свите которого шествуют весенние ветры, пригоняющие дождевые облака. Поэтому дождь называется крестьянами кормилец, и при накрапывании первого весеннего дождя к нему обращаются с таким окликом:
Поливай, дождь!
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром.
Дождь, дождь! припусти,
Посильней, поскорей,
Нас ребят обогрей.
Когда раздастся удар первого грома — все спешат умыться водою, которая в это время молодит и красит лицо, даёт здоровье и счастье. Кто умоется при первом весеннем громе, тот в продолжение целого года будет безопасен от поражения молнией. При первом громе мужчины, у которых болит спина или поясница, силятся приподнять что-нибудь, думая, что от этого прибывают силы и здоровье. Эту же чудесную силу приписывают и дождю, и девицы при первой весенней грозе умываются им или водою с серебра и золота и утираются чем-нибудь красным: серебро и золото — эмблемы блестящих лучей летнего солнца или золотистых молний, а вода — эмблема дождя, который обновляет (= молодит) землю, украшает её зеленью и цветами и водворяет на ней общее довольство. Об этом обыкновении упоминает и царская грамота 1648 года: “и в громное громление на реках и в озерах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются».
И по преданиям других народов, богу-громовнику приписывали дары земного плодородия, его молили орошать пашни и давать рост и зрелость нивам; на шведских островах доныне, при посеве хлеба, кладут в коробку с зерном и “громовую стрелку”; в Зеландии эти стрелки разбрасывают по засеянным полям, чтоб урожай был хороший; многие травы и растения получили названия, указывающие на громовника, как на их общего питателя. По сказанию Эдды, пахари по смерти находят успокоение от жизненных трудов в царстве Тора. За непочтение к хлебу Тор сурово наказывает; у словаков есть предание, что Parom, увидя, как одна безрассудная мать подтирала своею обмаравшегося ребёнка хлебными колосьями, грозно загремел над нею — и в ту же минуту и мать и дитя окаменели.
В искусстве возделывать землю плугом арийские племена видели божественное изобретение, и самая летняя гроза изображалась в поэтической картине вспахивания облачного неба громоносным Перуном (гл. XI). Так как, по другому воззрению, та же гроза уподоблялась битве, то, сближая оба эти представления, народная фантазия допускает сравнение битвы с возделыванием пашни.
“Чръна земля, — говорит Слово о полку Игореве, под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна, тугою взыдоша по русской земли”;
сравни с народною песнею:
“за славною за речкою Утвою
распахана была пашенка яровая;
не плугом была пахана, не сохою,
а вострыми мурзавецкими копьями;
не бороною была взборонована,
а коневыми резвыми ногами;
не рожью была посеяна, не пшеницею —
козачьими буйными головами;
не сильным дождичком всполивана —
козачьими горючьми слезами».
Украинские песни:
“черна роля заорана
и кулями засеяна,
белым телом зволочена
и кровбю сполощена”.
— “Уже почав вин землю конськими копытами орати,
кровъю молдавською поливати”.
Такие поэтические сравнения возникали под непосредственным влиянием языка, который понятия грозы, битвы и оранья выражал родственными звуками, так как со всеми ними нераздельна одна и та же мысль о разящем острие и наносимой ране: орать — “резать” землю плугом, ратай — пахарь и рать, ратник; пахать доселе сохраняет в облает, наречиях древнейшее значение “резать”, например, пахать хлеб, мясо.
Мы уже говорили о древнейшем представлении грозы брачным торжеством, любовною связью, в какую вступал бог-громовник с облачною или водяною (=дожденосною) нимфою, за которою несся он в порывах бури, как дикий охотник за убегающей жертвою, схватывал её и заключал в свои пламенные объятия; нимфа означает в греческом не только мифическое олицетворение дождевой тучи, но и вообще “новобрачную, невесту”; в Малороссии говорят: “коли дощь йде кризь сонце, то чорт дочку замиж виддае”; то же поверье соединяется и с вихрями, обыкновенными спутниками грозы: на Украине вихрь называется “чортово висилле” (свадьба), а в великорусских деревнях думают, что в это время “чёрт с ведьмою венчается»; у сербов есть поговорка: “бура гони, враг се жени».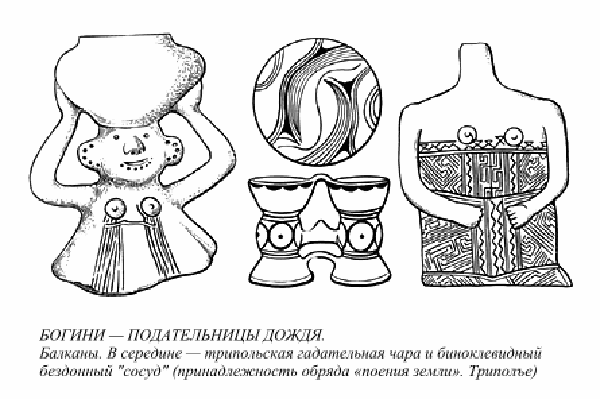
Туча олицетворялась существом женским, прекрасною полногрудою нимфою, питающею своими материнскими сосцами (= молоком дождя) весь дольний мир; сжимая её в своих объятиях, бог-громовник соединялся с нею молнией, как мужским детородным членом, и проливал на землю оплодотворяющее семя дождя. Согласно с этим, в других метафорических представлениях громовник сверлит гору-облако буравом и, проникая в её недра извивающимся змеем (= молнией), выпивает там драгоценный напиток-дождь; тем же орудием сверлит он и тучу-дерево, возжигая в ней пламя небесной грозы — точно так же, как на земле живой огонь добывался в древности быстрым вращением деревянного сверла, вложенного в круглое отверстие дубового обрубка. Это понятие сверлящего бурава прилагалось и к мужскому детородному члену (см. гл. XIX).
Итак, молния принималась за фаллос громовержца, который потому является в мифических сказаниях великим оплодотворителем, богом, наделенным неиссякаемою силою любострастия, постоянно ищущим чувственных наслаждений, покровителем любви и брачных союзов. Отсюда возник греческий миф об Уране, лишенном мужской силы.
Onranoz — небо; обычный эпитет, придаваемый ему: asteroez указывает на связь этого имени с ночным небом, а следовательно, и с небом, помраченным грозовыми тучами, так как оба эти понятия отождествлялись; соответствующее слово в санскрите Varuna — бог вод, первоначально: владыка облачных потоков. Уран, по сказанию Гезиодовой Теогонии, царствовал над вселенною и в любовном вожделении облегал богиню Гею = мать сыру землю; но Кронос, сын его, отрезал у отца серпом детородные части и присвоил себе верховное владычество над миром, т. е. зимние тучи ( = злобные титаны, порождение того же облачного Урана; Кроносу даётся тот же титанический характер) своим холодным дыханием оцепенили природу, отняли у летнего неба его плодотворящую способность, и царство лета сменилось царством зимы, которое и продолжалось до тех пор, пока не родился у Кроноса могучий Зевс. Возмужавший, Зевс вступил в битву с отцом Кроносом и титанами и низверг их в Тартар, т. е. с новою весною нарождается юный бог-громовержец, торжествует над зимними тучами и туманами и овладевает царственною властию.

Естественную преемственность этих явлений миф выразил сменою небесных владык; зима сменяет лето и лето зиму — подобно тому, как сын-царевич наследует престарелому отцу. Отнятие мужской силы Урана происходит во время осенних гроз и совершается серпом, в котором немецкие учёные усматривают поэтическое изображение радуги; но можно допустить и другое объяснение: кроме радуги, серпом представлялся и молодой месяц; как светило ночи, а ночь приравнивалась тёмным тучам и туманной зиме, серповидная луна могла навести на мысль о губительном орудии в руках демонов. Из капель пролившейся крови Урана (= дождя) восстают змееголовые эриннии и потрясающие копьями гиганты, т. е. из подымающихся паров рождаются демонические существа туманов и туч. Подобно тому из капель семени, которые обронил Гефест, преследуя Афину, произошёл змей Ericnonioz. Из того же уподобления молнии — мужескому детородному члену возникло религиозное чествование фаллоса.
Во всех древнейших религиях, в основу которых легло обожание творческих сил природы, придавалось любовным связям священное значение; так было у индийцев, персов, в Антиохии, Вавилоне и Египте. В Бенаресе до позднейшего времени хранилось изображение лингама, признаваемое за атрибут самого Шивы; страна, где лежит этот город, почитается святою. У греков и римлян на праздник Диониса (Вакха) торжественно носили изображение фаллоса, как священный символ весеннего плодородия, как знамение бога, проливающего с неба плодоносное семя дождя; подобные изображения употреблялись в старину, как спасительные амулеты, и делались иногда крылатыми, что указывает на быстролетную громовую стрелу.
Такой существенный, наиболее характеристичный признак владыки громов, как весеннего оплодотворителя, должен был усвоить за ним особенное прозвание, выражающее именно это отношение его к природе; впоследствии прозвание это принимается за собственное имя и выделяется в представление особенного божества. Но так как могучий громовник творит земные урожаи не только дождевыми потоками, но и ясными лучами солнца, выводимого им из-за густых туманов зимы и как бы вновь возжигаемого молниеносным светочем, то понятно, что в образе бога-оплодотворителя должны были сочетаться черты властителя весенних гроз с чертами царя весеннего солнца. Подобное слияние видели мы уже в женском олицетворении богини, равно принимаемой и за прекрасную деву-солнце и за воинственную громовницу.

Бог-оплодотворитель, представитель благодатной весны, назывался у германцев Фро или Фрейр, у славян — Ярило. Фро (Fro) признавался покровителем любви и браков; от него зависели и дожди и ясная погода, урожаи нив, счастье и благосостояние смертных. Шведы чтили его, как одного из главнейших богов, и в Упсале идол его стоял возле Тора и Водана (Одина). Адам Бременский называет его Фрикко и высказывается о нём этою замечательною фразою: “tertius est Fricco, pacem voluptatemque largiens mortalibus, cujus etiam simulacrum fingunt ingenti priapo». = «Третий бог был Фрикко, дарующий смертным мир и наслаждения, которого даже кумир изображают с огромным приапом».
Самое имя Фрейр или Фро (Fro) роднится с санскритом: friof— семя, friofr— плодовитый. При совершении свадьб ему приносили жертвы. Весною, празднуя его возвращение, шведы возили в колеснице изображение этого бога. Указанием на связь Фрейра с громовником служат его полёты на баснословном борове (см. гл. XIV) и блестящий меч (= молния), который сам собою поражает великанов туч (reifriesen).
Богу Фрейру или Фро соответствует богиня Frowa (Freyja) — то же, что рим. Liber и Libera, у славян Ладо и Лада. В песенных припевах Ладу даётся прозвание деда, каким обыкновенно чествовали Перуна: “ой Дид-Ладо!” К нему обращается хороводная песня: “а мы просо сеяли-сеяли”, намекающая на древнее умыкание жён; имя Лада сопровождает и другую песню о варке пива, которое, как метафора дождя, играло важную роль в культе громовника.

Значение Ярила вполне объясняется из самого его имени и сохранившихся о нем преданий. Корень яр совмещает в себе понятия: а) весеннего света и теплоты, b) юной, стремительной, до неистовства возбужденной силы, с) любовной страсти, похотливости и плодородия: понятия, неразлучные с представлениями весны и её грозовых явлений. Галицкая пословица: “ярь — наш отец и мати; хто не посее — не буде збирати”. У карпатских горцев ярь (пол. iar, iaro, чешск, gar, garo) — весна, т. е. ясное и тёплое время года, ярець — май; костромск. яр — жар, пыл (“как горела деревня, такой был яр на улице, что подступиться невмочь!”), cepб. japa — жар печи, japко сунце — то же, что наше “красное солнце”. В немецких наречиях слово это перешло в обозначение целого года — jahr (гот. jer, др.-вер.-нем. jar, др.-сак. ger, англос. gear, англ. year, сканд. аг), подобно тому, как наше лето, сближаемое Я. Гриммом с нем. lenz, lenzo, получает тот же самый смысл в выражениях: прожить столько-то лет, договориться на такое-то число лет, и др. Затерявшееся в сознании, старинное значение слова jahr было впоследствии подновлено прибавкою эпитета: fruhjahr (=fruhling) — раннее время года, весна; сравни: ит. primavera, фр. printemps. Прилагательные ярий, переярий в Курской губ. употребляются, говоря о животных, в смысле: второгоднего= пережившего одну весну. Ярый воск — чистый, белый (“горит свеча воску ярого”), ярые пчелы — молодые, весеннего роенья; чехи тот же эпитет, кроме пчелы и воска, придают и мёду. Яроводье — высокая, стремительно текущая вода весеннего разлива рек; яр — быстрина реки и размоина от весенней воды; яро — сильно, шибко, скоро, яровый (яроватый) — скорый, нетерпеливый, готовый на дело, яровистый — бойкий, ярый (ярный) — сердитый, вспыльчивый, раздражительный, сильный, разъярённый — страшно раздраженный, неукротимый, серб. japити се — гневаться. Внутренние движения души своей древний человек не иначе мог выразить, как чрез посредство тех уподоблений, какие предлагала ему внешняя, видимая природа, и так называемые отвлеченные понятия первоначально носили на себе материальный отпечаток; это и теперь слышится в выражениях: пылкая, пламенная, горячая любовь, теплое чувство, разгорячиться, вскипеть, вспылить (от пыл = пламя; нем. in hitze kommen) — прийти в гнев, разжечь в ком ненависть, желание мести, опала — царский гнев, пожигающий словно огонь, и проч.

Яровать — кипеть и обрабатывать поля под весенние посевы; яровина (яровинка) — весною посеянный (яровой) хлеб, серб. japo жито, пол. iare zboze, ярица — пшеница, серб. japHua — то же и japuna — летние плоды, яровик, яровище — поле, засеянное яровым хлебом. Ярость — гнев и похоть, ярун — похотливый, поярый — пристрастный к чему-нибудь (“он пояр до вина, до женщин”), яриться — чувствовать похоть, cepб. japич — любовный жар.
Те же самые значения соединяются, как увидим ниже, и с корнем буй, синонимическим речению яр.
Воспоминание об Яриле живее сохранилось в Белоруссии, где его представляют молодым, красивым и, подобно Одину, разъезжающим на белом коне и в белой мантии; на голове у него венок из весенних полевых цветов, в левой руке держит он горсть ржаных колосьев, ноги босые. В честь его белорусы празднуют время первых посевов (в конце апреля), для чего собираются по селам девушки, избрав из себя одну, одевают её точно так, как представляется народному воображению Ярило, и сажают на белого коня. Вокруг избранной длинною вереницею извивается хоровод; на всех участницах игрища должны быть венки из свежих цветов. Если время бывает тёплое и ясное, то обряд этот совершается в чистом поле — на засеянных нивах, в присутствии стариков. Хоровод возглашает песню, в которой воспеваются благие деяния старинного бога, как он ходит по свету, растит рожь на нивах и дарует людям чадородие:
А гдзеж joh нагою —
Там жито капою
А гдзеж joh ни зырне —
Там колас зацьвице!
Там, где ступал старинный бог своими босыми ногами, тотчас вырастала густая рожь, а куда обращались его взоры — там цвели колосья. И по представлениям других народов: где проходили боги, там подымались из земли роскошные злаки; на месте, где Зевс заключил Геру в свои объятия, зазеленели травы, запестрели цветы, и ниспадала на них обильная роса; в народных сказках красавица = богиня Весна, выступая в свой брачный путь — к ожидающему её жениху, наполняет воздух благовонием, а под стопами её вырастают прекрасные цветы.
В деревнях Великой и Малой России весенний праздник Ярилы перешёл в чествование Юрьева дня (см. гл. XIII); собственно же под именем Ярилова праздника известны были здесь и удерживались весьма долгое время те игрища, которые издревле совпадали с периодом удаления летнего солнца на зиму.

Тогда совершался знаменательный обряд похорон Ярила; изображение его делалось с огромным мужским детородным членом и полагалось в гроб; похороны сопровождались плачем и завыванием женщин— точно так же, как у финикийцев и других древнейших народов смерть фаллоса оплакивали женщины, принимавшие участие в религиозной церемонии его погребения. Этим обрядом выражалась мысль о грядущем, после летнего солоноворота, замирании плодотворящей силы природы, о приближающемся царстве зимы, когда земля и тучи замыкаются морозами, гром перестает греметь, молния — блистать, дождь — изливаться на поля и сады. Обрядовая обстановка, с какою праздновали бога Ярилу в разных местностях, указывает на тесную связь его с летними грозами, на тождественность его с дождящим Перуном: опьянение вином, как символом бессмертного напитка богов (=дождя), бешеные пляски, сладострастные жесты и бесстыдные песни — символы небесных оргий облачных дев и грозовых духов, напоминали древние вакханалии; как на праздниках Дионису главная роль принадлежала вакханкам, так и в вышеописанном белорусском игрище совершение обряда исключительно возлагается на девиц. В Воронежской губ. лицо, избранное представлять Ярила, убиралось цветами и обвешивалось бубенчиками и колокольчиками, в руки ему давали колотушку, и самое шествие его сопровождалось стуком в барабан или лукошко; потому что звон и стук были метафорами грома, а колотушка — орудием, которым бог-громовник производит небесный грохот.
У западных славян Ярило известен был под именем Яровита (вит — окончание, корень — яр), которого старинные хроники сравнивают с Марсом: “deo suo Herovito, qui lingua latina Mars dicitur, clypeus erat consecratus”; Марс же первоначально — громовник, поражающий демонов, а потом — бог войны. Как небесный воитель (бог яростный = гневный), Яровит представлялся с бранным щитом; но вместе с тем он был и творец всякого плодородия. От его лица жрец, по свидетельству жизнеописания св. Отгона, произносил следующие слова при священном обряде: “я бог твой, я тот, который одевает поля муравою и леса листьями; в моей власти плоды нив и деревьев, приплод стад и всё, что служит на пользу человека. Всё это дарую я чтущим меня и отнимаю у тех, которые отвращаются от меня».
Срезневский считает Руевита (Rugievithus) тождественным с Яровитом: “оба названия имеют одно и то же значение буйности, силы”; а далее прибавляет “Другая форма корня яр есть яс — и от неё произошло другое название: бог света Ясонь или Хасонь, известное чехам в смысле Феба. Длугош, а за ним и Бельский говорят о нем (Jcsse), как о Юпитере”. Имя Ярилы слышится во многих географических названиях: Ярилово поле — в Костроме, Ярилова роща, бывшая некогда под Кинешмою, село Ерилово в Дорогобужском уезде, Яриловичи — урочища в Тихвин, и Валдайский уезд, Ярилова долина около Владимира.
Языческие празднества, совершавшиеся в честь плодотворящих сил природы, отличались полным разгулом и бесстыдством, на это мы имеем прямые свидетельства памятников. Послание игумена Памфила во Псков 1505 года говорит:
“егда бо приходит велий праздник день Рождества Предтечева (— 24 июня — праздник летнего поворота солнца), и тогда во святую ту нощь мало не весь град взмятется (в селех) и возбесится… стучать бубны и глас сопелий и гудуть струны, женам же и девам плескание и плясание, и главам их накивание, устам их неприязнен клич и вопль, всескверненные песни, бесовская угодия свершахуся, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; ту же есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко (вар. ту есть) на женское и девическое шатание блудно(е) и(м) взрение, такоже и женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление».
И то творится, по выражению игумена, в укоризну и бесчестие святому празднику, подобает день этот содержать в чистоте и целомудрии, а не в козлогласовании, пьянстве и любодеянии. То же подтверждает и Стоглав: на Иванов день и в навечерии Рождества и Крещения (время зимнего солоноворота, знаменующего возрождение божеского творчества) “сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела и бывает отроком осквернение и девам растление”. Упоминает Стоглав, что подобные “глумы” творились и в Троицкую субботу, и в Петровское заговенье.
По всему вероятию, с праздниками Ярилы и Перуна-оплодотворителя соединялось в отдаленную старину и совершение языческих браков и умычки (похищение) жён, о чём в Несторовой летописи сказано так:
“радимичи, и вятичи, и север (северяне) один обычай имяху (с древлянами): живяху в лесе, яко же всякий зверь, ядуще все нечисто, срамословье в них пред отьци и пред снохами, браци не бываху в них (т. е. с христианской точки зрения), но игрища межю селъг. Схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бесовьская игрища, и ту умыкаху жены собе, с нею же кто свещашеся; имяху же по две и по три жены«.
Переяславский летописец передает это свидетельство Нестора в более распространенной форме:
“и срамословие и нестыдение, диаволу угажающи, възлюбиша и пред отци и снохами и матерми, и м(б)раци не возлюбиша, но игрища межи сел, и ту слегахуся, рищюще на плясаниа, и от плясаниа познаваху — которая жена или девица до младых похотение имать, и от очного взозрения, и от обнажения мышца, и от ручных показаниа, и от прьстнеи даралаганиа (перст возлагания?) на пръсты чюжая, таж потом целованиа с лобзанием, и плоти с сердцем ражегшися слагахуся, иных поимающе, а другых, поругавше, метааху на насмеание до смерти».
Из правил митрополита Иоанна (конца XI ст.) видно, что и после просвещения Руси простой народ считал христианский обряд венчания — церемонией, установленной для князей и бояр, и не признавал за нужное брать на супружеское сожитие церковного благословения, а довольствовался старыми языческими обычаями, и что в его время были люди, имевшие по две жены.
Поклонение Яриле, и буйные, не целомудренные игрища, возникшие под влиянием этого поклонения, — всё, в чём воображению язычника наглядно сказывалось священное торжество жизни над смертию (= Весны над Зимою), для христианских моралистов были “действа” нечистые, проклятые и бесовские; против них постоянно раздавался протест духовенства. Несмотря на то, стародавний обычай не скоро уступил назиданиям проповедников; до позднейшего времени на Яриловом празднестве допускались свободные объяснения в любви, поцелуи и объятия, и матери охотно посылали своих дочерей поневеститься на игрищах.

Праздник этот в Твери уничтожен ревностью архиепископов Мефодия и Амвросия, а в Воронеже то же совершено преосвященным Тихоном. В 1765 году — в понедельник Петрова поста (30 мая) приехал святитель на площадь, где происходило народное гульбище; “я увидел, — говорит он в своем увещании к пастве, что множество мужей и жен, старых и малых детей из всего города на то место собралось. Между сим множеством народа я увидел иных почти бесчувственно пияных, между иными ссоры, между иными драки; приметил плясания жен пияных с скверными песнями”. Преосвященный остановился посреди толпы и начал обличение; проповедь его достигла цели, народ разошёлся, и праздник Ярилы навсегда был оставлен.
Уподобление дождя мужскому семени и чествование фаллоса привели к тому суеверному, исполненному нравственного безобразия обряду, о котором упоминается в летописи Нестора — в рассказе о болгарах, приходивших к св. Владимиру: “си бо омывають оходы своя, поливавше водою, в рот вливают и по браде мажются, поминают Бохмита; такоже и жены их творять ту же скверну, и ино пуще от совкупленья мужьска и женьска вкушають. Си слышав Володимер плюну на землю, рек: нечисто есть дело!»
Слово св. Григория (Паисиевский сборник XIV в.), говоря о языческих народах, которые чтили срамные уды и требы им возлагали, прибавляет: “от них же болгаре научившись, от срамных уд истекшюю скверну вкушають, рекуще: сим вкушаньем оцещаються греси”. По другому списку: “словене же на свадьбах вкладываюче срамоту и чесновиток (чеснок) в ведра пьють; от оюфильских же и от аравитьскых писаний научьшеся болгаре от срамных уд истекающюю сквьрноу вкоушають”.
В слове Христолюбца (по рукописи XV в.) находим то же свидетельство: “ино же сего горее есть: устроивыне срамоту мужьскую и вкр(л)адывающе в ведра и в чаше и пьють, и вынемьше осморкывають и облизывають и целують, не хужьше суть жидов и еретик и болгар».
Как символы дождя, мужское семя и вода, которою омываются детородные члены, получили в народных убеждениях ту же очистительную силу, какую индийцы присвоили коровьим экскрементам (см. гл. XIII), и значение напитка, скрепляющего брачные узы и рождающего любовь. В вопросах Кирика (XII в.) читаем: “а се есть у жен: аще не взлюбять их мужи, то омывають тело свое водою, и ту воду дають мужем». В одном рукописном соборнике XVI века в статье о различных эпитемьях сказано: “грех есть мывшесь молоком или мёдом (и молоко, и мед символы дождя) и давши кому пити милости для — опитемьи 8 недель поклонов по 100”.
Чувство взаимного влечения юноши и девицы, чувство любви, ведущей к брачному союзу, издревле выражалось под метафорическими образами грозы, связующей отца-небо с матерью-землею. На эпическом языке народных песен любовь прямо называется горючею (“горюча любовь на свете”); об ней поётся:
Не огонь горит, не смола кипит,
А горит-кипит ретиво сердце по красной девице.
Любовь — не пожар, выражается пословица, а загорится — не потушишь. В Переяславльском уезде говорят: “лучше семь раз гореть (т. е. быть холостым, томиться любовью), чем один овдоветь”. В том же значении слово “гореть” употребляется в замечательной народной игре, известной под именем горелок.
Игра Горелки начинаются с наступлением весны, с Светлой недели, когда славилась богиня Лада, покровительница браков и чадородия, когда самая природа вступает в свой благодатный союз с богом-громовником и земля принимается за свой род. Очевидно, игре этой принадлежит глубокая древность.
Холостые парни и девицы устанавливаются парами в длинный ряд, а один из молодцев, которому по жребию достается гореть, становится впереди всех и произносит: “горю, горю-пень!” — Чего ты горишь? — спрашивает девичий голос. — Красной девицы хочу. — Какой? — Тебя молодой! При этих словах одна пара разбегается в разные стороны, стараясь снова сойтись друг с дружкой и схватиться руками; а который горел — тот бросается ловить себе подругу. Если ему удастся поймать девушку прежде, чем она сойдется с своей парою, то они становятся в ряд, а оставшийся одиноким заступает его место; если же не удастся поймать, то он продолжает гоняться за другими парами, которые, после тех же вопросов и ответов, бегают по очереди. Погоня за девицами, ловля, захват их указывают на старинные умычки жён; юноша, волнуемый страстными желаниями, добивающийся невесты, уподобляется горящему пню, а самая игра в разных областных наречиях слывет: огарыши, огорелыш, опрел (отпреть), малорус: гори-дуби гори-пень. Есть ещё другая игра, значение которой тождественно с горелками; девица садится в стороне и причитывает: “горю, горю на камешке; кто меня любит, тот сменит” (или: “кто милее всех, тот меня выкупит”). Из толпы играющих выходит парень, берет её за руки, приподымает и целует; потом садится на её место и произносит те же слова: его выкупает одна из девиц, и так далее.
Заговоры на любовь называются присушками (от сушить; санскрит корень cush — сухой (лат. arescere), сushman — огонь = то, что жжёт и сушит; наше сухмень — засуха, произведенная жаркими лучами солнца, а на утрату этого чувства — отсушками или остудою (от: стыть, студить, студёный, стужа, остуда— нелюбовь, ненависть, постылый — немилый; сравни: охладеть в любви). Для того, чтобы уничтожить в ком-нибудь любовь, надобно погасить в нём пыл страсти, охладить внутренний сердечный жар. Этим многочисленным данным, по-видимому, противоречит слово зазноба — любовь: зазнобчивый— влюбчивый от знобить— холодить, морозить, озноб— дрожь, ощущение холода, но это противоречие только кажущееся: оно легко объясняется переходом понятия о поедучем, причиняющем боль огне к значению жгучего мороза (см. гл. XI). Областной говор: зазной — любовь, зазноиный — влюбленный, зазноить — обуглиться, зноить — от сильного жара принимать красный цвет, издавать запах гари, зной — жара, зазнияться — загореться.

Заговоры на любовь или присушки состоят из заклинаний, обращенных к божественным стихиям весенних гроз: к небесному пламени молний и раздувающим его ветрам. Приведем несколько любопытных примеров:
а) “На море на кияне (=в небе)… стояла гробница (=туча), в той гробнице лежала девица (молния, богиня-громовница). Раба божия (имярек)! встань-пробудись, в цветное платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай своё сердце ретиво по рабе божием (имя) и дайся по нём в тоску и печаль». Кремень и огниво, которыми Перун высекает свои молниеносные искры, до сих пор даются в Олонецкой губ. жениху, перед самым отправлением его к венцу; с ними отправляется он и в церковь.
в) “Встану я раб божий и пойду в чистое поле. Навстречу мне Огонь и Полымя и буен Ветер. Встану и поклонюсь им низёшенько и скажу так: гой еси Огонь и Полымя! не палите зеленых лугов, а буен Ветер! не раздувай полымя; а сослужите службу верную, великую: выньте из меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите её через боры — не потеряйте, через пороги — не уроните, через моря и реки — не утопите, а вложите её в рабу божью (имя) — в белую грудь, в ретивое сердце, и в легкие и в печень, чтоб она обо мне рабе божьем тосковала и горевала денну, ночну и полуночну, в сладких ествах бы не заедала, в меду, пиве и вине не запивала”. Подобные обращения делаются и к огненному змею — зооморфическому олицетворению громовой тучи. В других заговорах читаем:
с) “Пойду я в чистое поле, взмолюся трём Ветрам, трём братьям: Ветры, буйны Вихори! дуйте по всему белому свету, распалите и разожгите и сведите рабыню (имя) со мною рабом божиим душа с душой, тело с телом, плоть с плотью, хоть с хотью.(сравни: похоть) Не уроните той моей присухи ни на воду, ни на лес, ни на землю, ни на скотину; на воду сроните — вода высохнет, на лес сроните — лес повянет, на землю сроните — земля сгорит, на скотину сроните — скотина посохнет. Снесите и положите (ее) в рабицу божию, в красную девицу — в белое тело, в ретивое сердце, в хоть и плоть… Есть в чистом поле — сидит баба-сводница, у бабы-сводницы стоит печь кирпичная, в той печи кирпичной стоит кунган, в том кунгане всякая веща кипит-перекипает, горит-перегорает, сохнет и посыхает; так бы о мне рабе божием рабица божия (имя) сердцем кипела, кровию горела, и не могла бы без меня ни жить, ни быть».
d) “Встану я и пойду в чистое поле под восточную сторону. Навстречу мне семь братьев, семь Ветров буйных. — Откуда вы, семь братьев, семь Ветров буйных, идете? куда пошли? — Пошли мы в чистые поля, в широкие раздолья сушить травы скошенные, леса порубленные, земли вспаханные. — Подите вы, семь Ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят — со всего света белого, понесите к красной девице (имя) в ретивое сердце: просеките булатным топором (= молнией) ретивое её сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в её кровь горячую, в печень, составы…, чтобы красная девица тосковала и горевала по таком-то рабе божием во все суточные 24 часа, едой бы не заедала, питьем бы не запивала, в гульбе бы не загуливала и во сне бы не засыпывала, в теплой паруше (бане) щелоком не смывала, веником не спаривала… и казался бы ей такой-то раб божий милее отца и матери, милее всего рода-племени, милее всего под луной господней».
е) “Есть на восточной стране высокие горы, на тех горах стоит сырой дуб кряковатый (горы = тучи, дуб — Перуново дерево); стану я раб божий под тот сырой дуб кряковатый и поклонюся буйным Ветрам: ой же вы, буйные Ветры! повейте вы на меня раба божия и обвейте вы семьдесять составов с составом и семьдесять жил с жилою, хоть, плоть и горячую кровь и ретивое сердце, и свейте вы с раба божьего думу и помышление, тоску и сухоту. И обвейте вы, Ветры буйные, рабу божию мою полюбовницу в её белое лицо, в ясные очи, во все 70 жил с жилою и 70 составов с составом, хоть и плоть… и зажигайте вы, буйные Ветры, у рабы божией моей полюбовницы душу и тело, думу и помышление… Как всякий человек не может жить без хлеба — без соли, без питья — без ежи, так бы не можно жить рабе божией без меня раба; сколь тошно рыбе жить на сухом берегу без воды студеные и сколь тошно младенцу без матери, а матери без дитяти, столь бы тошно было рабе божией без меня раба; как быки скачут на корову, так бы раба божия бегала, искала меня — Бога бы не боялась, людей бы не стыдилась, во уста бы целовала, руками обнимала, блуд сотворила; и как хмель вьётся около кола, так бы вилась-обнималась раба божия около меня”. (Новгор. губ.)
f) “В чистом поле гуляет буйный Ветер; подойду я поближе, поклонюсь пониже и скажу: гой еси буйный Ветер! пособи и помоги мне закон (брачный союз) получить от такого-то дома».
Под непосредственным влиянием древнеязыческих воззрений на силы природы — воззрений, которые находили для себя долго не иссякавший источник и прочную опору в звуках родного языка, сложилась и система нравственных убеждений человека. Весь внутренний мир его представлялся не свободным проявлением человеческой воли, а независимым от неё, привходящим извне действием благосклонных или враждебных богов. Всякое тревожное ощущение, всякая страсть принимались младенческим народом за нечто наносное, напущенное, какой взгляд и доныне удерживается в массе неразвитого простонародья: пьёт ли кто запоем, пристрастится ли к игре, страдает ли душевной болезнею— всё это неспроста, во всем этом видят очарование.
Чувство любви есть также наносное; те же буйные ветры, которые пригоняют весною дождевые облака, раздувают пламя грозы и рассыпают по земле семена плодородия, — приносят и любовь на своих крыльях, навевают её в тело белое, зажигают в ретивом сердце. Кто влюблен, тот очарован. Возбуждая тайные желания, безотчетную грусть и томление, любовь понята народом как грызущая, давящая тоска, заставляющая юношу или девицу изнывать, сохнуть, таять; так изображается она и в заговорах:
“как на море на окиане, на острове на Буяне, есть бел-горюч камень алатырь (скала-облако), на том камне устроена огнепалимая баня, в той бане лежит разжигаемая доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски… чрез все пути и дороги и перепутья воздухом и аером. Мечитесь тоски, киньтесь тоски и бросьтесь тоски (в красную девицу) в ее буйную голову, в тыл, в (229) лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в ее ум и разум, в волю и хотение, во все ее тело белое”, чтобы был ей добрый молодец “милее свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной».
— “Вставайте вы, матушки, три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, и берите свое огненное пламя, разжигайте рабу-девицу (имя), разжигайте ее во дни, в ночи и в полуночи, при утренней зоре и при вечерней…»
— “На море на окиане, на острове на Буяне, лежит доска, на той доске лежит тоска; бьется тоска, убивается тоска, с доски в воду, из воды в полымя ( = дождь и молнии)… Дуй рабе (такой-то) в губы и в зубы, в ее кости и пакости, в ее тело белое, в ее сердце ретивое, в ее печень черную…”

Присушки наговариваются большею частию на хлеб, вино или воду, и эти наговорные снадобья даются при удобном случае тому, кого хотят приворожить; произносятся они и на след, оставленный ступнею милого человека, и на ласточкино сердце и вороново перо. В старинной песне про богатыря Добрыню и чародейку Марину находим следующий интересный рассказ:
Брала она следы горячие, молодецкие,
Набирала Марина беремя дров,
А беремя дров белодубовых;
Клала дровца в печку муравленую
Со теми следы горячими,
Разжигает дрова палящим огнём,
И сама она дровам приговаривает:
“Сколь жарко дрова разгораются
Со теми следы молодецкими,
Разгоралось бы (так) сердце молодецкое
У молода Добрынюшки Никитьевича”.
А и божье крепко, вражье-то лепко:
Взяло Добрыню пуще острого ножа
По его по сердцу богатырскому.
Чара направлена на то, чтобы заставить добра молодца ухаживать, волочиться, следовать за красной девицей; след — эмблема ноги (стр. 37). Ласточка — птица, предвещающая возврат весны с её благодатными грозами, а ворон — приноситель живой воды дождя, и потому им даётся участие в заговорах на любовь. Ласточкино сердце привязывают к шейному кресту, а вороново перо кладут у порога, через который должна переступить любимая девица; но прежде этого они нарочно засушиваются: “как иссыхает птичье перо и сердце, так да иссохнет красная девица по доброму молодцу”.
На те же предметы наговариваются и остуды, и самое заклятие обращается к тем же стихиям — грозе, ветрам и воде, как символу дождя: гой еси, река быстрая! прихожу я к тебе по три зари утренни и по три зари вечерни с тоской тоскучей, с сухотой плакучей, мыти и полоскати лицо белое, чтобы спала с моего лица белого сухота плакучая, а из ретива сердца тоска тоскучая. Понеси ты её (тоску), быстра реченька, своею быстрою струею и затопи ты её в своих валах глубоких, чтобы она ко мне рабу не приходила”.

Итак, вода должна смыть с влюбленного тоску, залить его сердечный жар — подобно тому, как погасает пламя молний в дождевых потоках. Бурные порывы грозы и вихри, по смыслу заговоров на остуду, должны развеять, разнести любовную тоску и охладить её пыл своим холодным дыханием. Это доказывает, что и те эпические обращения к рекам и ветрам с просьбою унести людское горе, какие часто встречаются в народных песнях, далеко не были риторическими прикрасами, а порождены искреннею верою в могущество стихий. Любопытен следующий заговор, призывающий Зевсову птицу — громоносного орла:
“встану я раб божий (имя) благословясь, пойду перекрестясь в чистое поле, стану на запад хребтом, к востоку лицом, помолюсь и покорюсь пресвятой Деве Матери Богородице (замена Лады); сошлёт она с небес птицу-орла. Садится орел на ретивое сердце, вынимает печаль-кручинушку, тоску великую, поносит птица-орёл на окиян-море, садится на беломятый камень, кидает там печаль-кручинушку, тоску великую. Как этому камню на сей земле не бывать, так бы мне рабу божию тоски-кручины не видать”. (Шенкурск, уез.)
“Пойду я в поле… Навстречу мне бежит Дух-вихорь из чистого поля со своею негодною силою, с моря на море, через леса дремучие, через горы высокие, через долы широкие; и как он бьет травы и цветы ломает и бросает, так бы NN бил-ломал и бросал рабу божию (имя) и до себя вплоть не допущал, и казался бы (ей) тот человек пуще змея лютого”.
Так как тучам и вихрям, наряду с божественным, придавался и демонический характер, то заклятия на любовь обращаются иногда к нечистой силе. Приводим заговор из следственного дела 1769 года:
“Пойду я, добрый молодец, посмотрю в чистое поле в западную сторону под сыру-матерую землю, и паду я своею буйною головою о землю сыру-матерую, поклонюсь и помолюсь самому сатане: гой еси ты, государь сатана! пошли ко мне на помощь рабу своему часть бесов и дьяволов… с огнями горящими и с пламенем палящим и с ключами кипучими, и чтоб они шли к рабице-девице (или: молодице) и зажигали б они по моему молодецкому слову её душу и тело и буйную голову, ум и слух и ясные очи… чтоб она раба от всего телесного пламени не могла бы на меня доброго молодца и на моё белое лицо наглядеться и насмотреться, и шла бы она в мою молодецкую думу и думицу и в молодецкую телесную мою утеху, и не могла бы она насытиться своею черною п… моего белого х.., и не могла бы она без меня ни жить — ни быть, ни есть — ни пить, как белая рыба без воды, мертвое тело без души, младенец без матери, и сохла бы она по мне своим белым телом, как сохнет (трава) от великого жару и от красного солнышка и от буйного ветра».
Из древнейшего воззрения на грозу, как на брачный союз, возникло множество гаданий, поверий и свадебных обрядов, связывающих предвестия о браках и идеи семейного счастия и чадородия с различными символическими представлениями грома, молнии и дождя:
1. Так как земной огонь был эмблемою небесного пламени молний, а вода — дождя, то отсюда понятны следующие гадания:
а) девица вздувает с уголька огонь на лучину; если она долго не разгорается, то муж будет непослушный, крутой характером, и наоборот.
b) Зажигая с одного конца лучину, втыкают её другим концом в бревно и примечают: в какую сторону упадет пепел? — с той стороны жених явится. (Тамбов, губ.)
с) обмакивают лучину в воду и потом зажигают, и смотря по тому, скоро или медленно она загорится — делают заключение о выгодном или невыгодном женихе,
d) Наливают на сковороду воды, кладут в неё хлопки и зажигают: если хлопки будут гореть с треском, то суженый будет ворчливый, неуживчивый; а если станут втягивать в себя воду— суженый будет пьяница,
е) Берут несколько скорлупок грецких орехов, вставляют в них маленькие обрезки восковых свеч, зажигают и опускают в чашку, наполненную водою; каждая свечка пускается на имя одной из гадающих девиц. Чья свеча сгорит прежде, та девица скорей всех замуж выйдет, и наоборот; а чья свеча потонет — той девице умереть незамужнею. Иногда эти свечи обозначаются именами девиц и знакомых парней; если две свечи: одна, названная мужским именем, а другая — женским, поплывут вместе, то жить тому парню с тою девицею в паре; точно так же гадают у лужичан и в Германии.
f) Гадают ещё так: собравшись толпою, бегут крестьянские девушки к реке или пруду, набирают в рот воды и спешат воротиться в избу, если удастся донести воду во рту, то жених посватается; а которая девица выпустит воду от испуга, кашля или утомления — той нечего и думать о женихе; воротившаяся прежде всех с водою — прежде всех и замуж выйдет,
g) Поздно вечером съедает гадальщица наперсток соли, чтобы возбудить в себе жажду, и, ложась спать, приговаривает: “кто мой суженый, кто мой ряженый, тот меня напоит!” Суженый является во сне и подает ей пить: напиток этот — метафора оплодотворяющего семени дождя, которым напояется богиня Земля во время весеннего сочетания её с отцом Небом; Ставят ещё под кровать тарелку с водою и замечают убыла она или нет, и по этому судят о супружестве; убыль воды — дурной знак. Иногда кладут на этой тарелке лучину (мостик), и суженый должен явиться во сне и перевести девицу через мост (Херсон. Г. В. 1846; 10). На Святках девицы бросают в проруби палочки с своими пометами и на другое утро ходят смотреть: что с ними сделалось? Если палочка уплыла — это сулит скорое замужество, и наоборот;
h) Перед отходом ко сну девица продевает в свою косу висячий замок, запирает его и причитывает: “суженый-ряженый! приди ко мне ключ попросить”. То же самое причитывает она и над ведрами, перевясла которых запираются на ночь висячим замком, и над палкою, которая кладется поперек проруби с таким же замком. Если приснится девице, что кто-нибудь из холостых парней приходил к ней за ключом, то она принимает это за предвестие скорого с ним брака.
Как бог-громовник только тогда овладевает любовью облачной девы, когда откроет ключом-молнией доступ к дорогому напитку живой воды (= дождю) и упьётся им, так и жених в этом замечательном гаданье представляется отмыкающим запертое сокровище девственного напитка.
Коса также символ девственности, и по свадебному обряду жених покупает её у родителей невесты. Весьма знаменателен рассказ, встречаемый в муромской легенде о князе Петре и супруге его Февронии, где, согласно с древнейшим воззрением, любовное наслаждение объясняется под метафорическим образом испивания воды: плыла Феврония с своими приближенными по Оке:
“некто же бе человек у блаженный княгини Февронии в судне и жена его в том же судне бысть; той же человек убо приим помысл от лукавого беса, възрев на святую с помыслом. Она же разумех злой его помысл и вскоре обличи и рече ему: почерп(н)и воды из реки сей сию страну судна сего. Он же почерпе, и повеле ему испити; он же пив. И рече же паки она: почерпи убо воды з’другой страны судна сего. Он же почерпе, и повеле ему паки испити; он же пив. Она же рече: равна ли убо вода есть или едина сладши? Он же рече: едина есть, госпожа, вода. Паки же она рече: сице едино естество женское есть; почто убо, свою жену оставляя, и чюжия (на чужую) мыслиши?»
На той же метафоре основан и следующий сказочный эпизод: добрый молодец приезжает во дворец Царь-девицы, которая спала на ту пору глубоким, богатырским сном; позарился на её несказанные прелести и смял красу девичью, а сам поскорей на коня и ускакал: не оправил даже постельных покровов. Пробуждается от сна Царь-девица и говорит во гневе: “какой это невежа в моем доме был, воды испил, колодец не закрыл!” (или: квас пил да не покрыл!”)
В свадебных обрядах крестьян огонь и вода доселе не утратили своего древнего значения: переезд молодых через горящий костер, возжение свечей при окручивании невесты, поставление их в кад с зерном и обливание жениха и невесты ключевой водою совершаются с целию призвать на юную чету дары плодородия и счастия (см. ниже в главе о брачных обрядах).

Эрос и Псия (Душа)
2. Главнейшими символами молнии была стрела, а дождя — мёд и вино; и та и другие играют важную роль в свадебном обряде. Эрос или купидон, бог любви (erwz — любовь, вожделение), изображался крылатым, с луком и стрелами, пуская стрелы он зажигал сердца любовною страстию. Греческого Эроса Макс Мюллер сближает с словом Aruscha, которое употребляется в Ведах и как эпитет, означающий светлый, и как существо мифологическое: как Эрос — сын Зевса, так Аруша называется сыном Диауса (Divan shishus), и точно так же представляется прекрасным ребёнком. Это собственно— олицетворение молниеносной стрелы, бросаемой богом-громовержцем в дождевые тучи; представление Эроса малюткою объясняется из древнейшего воззрения на молнию, как на карлика (эльфа), а лёгкие крылья его — эмблема быстроты, с которою летит стрела-молния; и стрелу, и молнию народные предания равно наделяют крыльями, и отождествляют их с птицами (см. гл. X). Греки чтили Эроса не только как возбудитель любви, но и как творческую силу, вызывающую мир к бытию, как божество весны. В народных песнях птицы играют роль гонцов, посылаемых любовниками. В одном заговоре на любовь читаем:
“встану я, раб божий, благословясь, пойду перекрестясь… в чистое поле; стану на запад хребтом, на восток лицом, позрю-посмотрю на ясное небо: со ясна неба летит огненна стрела; той стреле помолюсь-покорюсь и спрошу её: куда полетела, огненна стрела? — Во тёмные леса, в зыбучие болота, в сырой кореньё. О ты, огненна стрела! воротись и полетай, куда я тебя пошлю: есть на святой Руси красна девица (имярек); полетай ей в ретивое сердце, в чёрную печень, в горячую кровь, в становую жилу, в сахарные уста, в ясные очи, в чёрные брови, чтобы она тосковала-горевала весь день — при солнце, на утренней заре, при младом месяце, на ветре-холоде, на прибылых днях и на убылых днях отныне и до века”. (Шенкур. уез.)
В народных русских сказках царь даёт своим сыновьям такой приказ: “сделайте себе по самострелу и пустите по каленой стреле; чья стрела куда упадёт — с того двора и невесту бери!” (или: какая девица подымет стрелу — та и невеста!)
Отсюда становится понятным, почему в старину, окручивая невесту, девичью косу её разделяли стрелою, а гребень, которым коса расчесывалась, обмакивали в мёд или вино; почему в сеннике, где клали спать молодых, по углам и над брачною постелью утверждали стрелы; почему наконец, когда просыпалась молодая на другой день брака, то покров с неё приподымали стрелою. Как метафора молнии, которою Перун сверлит тучи, проливает дожди и снимает с неба облачные покровы, стрела в свадебном обряде служила знамением плодородия и вместе с тем была орудием, освящающим брачный союз, — точно так же, как у германцев употреблялся для этого молот, один из главнейших атрибутов Тора. Но как тем же орудием поражает Перун демонов, то стрела служила во время свадьбы и предохранительным средством против влияния нечистой силы и злых чар. То же значение соединялось и с другою эмблемою молнии — острым мечом. Спальню молодых охранял в старину конюший или ясельничий, разъезжая вокруг неё с обнаженным мечом: “а как начнёт царь с царицею опочивать, и в то время конюший ездит около той палаты на коне, вы(й)мя меч наголо, и ездит конюший во всю ночь до света”
В древненемецких сагах питьё из одного кубка вина девою и юношею принимается за символический знак их любви и согласия на брачный союз. По требованию венчального обряда, жених и невеста пьют вино из одного ковша, подаваемого им священником; в старину, как видно из свадебных чиноположений, жених после того, как вино было выпито, бросал склянницу оземь и топтал её ногою; Олеарий и Ченслер говорят, что склянницу растаптывали вместе и жених и невеста. По старинному обычаю, крестьянская свадьба не бывает без пива и браги, и выражение “заварить пиво или брагу” доныне употребляется в смысле: готовиться к свадьбе. Девицы, желающие поскорей выйти замуж, прибегают к такому средству: тайно ото всех ставят в печь корчагу и заваривают в ней солод; когда солод поспеет, корчагу выносят за ворота и там спускают сусло, с надеждою, что прежде, чем окиснет пиво, приедёт жених свататься, и что этим самым пивом придется его подчивать. Лужицкие девицы ставят на ночь два стакана — один с водою, другой с вином, и причитывают, чтобы явился суженый и утолил свою жажду; если к утру убавится в стакане вода, то жених будет бедный, а если вино — то богатый. Подблюдная святочная песня, предвещающая скорый брак, гласит:
Ещё ходит Иван по погребу,
Ещё ищет Иван неполного,
Что неполного, непокрытого;
Ещё хочет Иван дололнити
Свою братину зеленым вином.
То есть жених ищет невесту, которая уподобляется здесь братине с вином. На том же уподоблении возникли и следующие любопытные обряды: в том случае, когда будет обнаружено, что невеста вышла замуж не целомудренною, родной матери её подают стакан меда (вина или пива), внизу которого нарочно делают отверстие, закрываемое пальцем; как скоро мать берется за стакан, отверстие открывается — и мед (вино или пиво) утекает: знак, что сладкий напиток девственности уже выпит прежде брака. Если же невеста найдена будет непорочною, то к собранным гостям выносят её окровавленную сорочку, и тотчас начинаются вакхические песни, пляски и битье рюмок, стаканов и вообще посуды, чем символически выражается совершившийся акт брачного союза: девственная чара разбита и вино из нее выпито счастливым супругом. В Германии существует обычай бить старые горшки перед дверями невестина дома.

3. Бог-громовник представлялся кузнецом, фантазия олицетворяла его медведем, а гром метафорически уподоблялся звону колокола: все эти мифические представления нашли себе применение в народных поверьях о брачном союзе. Подблюдная песня:
Медведь-пыхтун
По реке плывет,
Кому пыхнёт во двор,
Тому зять в терем —
предвещает скорую свадьбу. Крестьянские девушки берут обрывок веревки от церковного колокола, разнимают этот обрывок на несколько прядей и вплетают их в косы, как талисман, имеющий силу привлекать женихов. Бог-кузнец, кующий молниеносные стрелы, которыми Эрос возжигает сердца, призывается в заговорах на любовь и в святочных гаданиях. Читаем в одной “присушке”:
“На море на океане, на острове на Буяне
стоят три кузницы, куют кузнецы там на трёх станах.
Не куйте вы, кузнецы, железа белого,
а прикуйте ко мне молодца (или: красную девицу);
не жгите вы, кузнецы, дров ореховых,
а сожгите его ретиво сердце —
чтобы он ни яством не заедал,
ни питьем не запивал,
ни во сне не засыпал,
а меня бы любил-уважал
паче отца-матери, паче роду-племени».
А вот святочная песня, предвещающая женитьбу:
Идёт кузнец из кузницы,
Несёт кузнец три молота.
“Кузнец, кузнец! ты скуй мне венец,
Ты мне венец и золот и нов,
Из остаточков — золот перетень,
Из обрезочков — булавочку:
Мне в том венце венчатися,
Мне тем перстнем обручатися,
Мне тою булавкою убрус притыкать” .
У германцев благословение брака совершалось чрез положение молота на колени невесты, и четверг, как день, посвященный громовнику, до сих пор считается за самый счастливый для свадебных союзов; Top — дарователь чадородия: оскорбленный и разгневанный, он замыкает чрево жены и делает её бесплодною.
Под влиянием христианства древние языческие сказания о мифическом кузнеце-громовнике были перенесены у нас на святых Козьму и Демьяна, в которых простолюдины склонны видеть одно лицо и которым приписывают они и побиение змея-тучи кузнечными молотами (см. гл. XI). К этим святым кузнецам поселяне обращаются в своих свадебных обрядовых песнях с мольбою сковать брачный союз крепкий, долговечный, навек неразлучный:
“О святэй Кузьма Дямян!
Прихадзи на свадзьбу к нам
Са сваим святым кузлом (молотом),
И скуй ты нам свадзибку
Крепко-крепко-накрепко:
И людзи хулютсь — не расхулютсь,
Вятры веютсь — не развеютсь,
Солнца сушитсь — не рассушитсь,
Дожди моцутсь — не размоцутсь”.
Записано в Ржевском уезде:
Ты, святой-ли Козьма-Демьянович!
Да ты скуй ли-ка нам свадебку
Вековечную, неразрывную!
“Сковать свадьбу” значит: сковать те невидимые, нравственные цепи (= обязанности), которые налагают на себя вступающие в супружество и символическими знаками которых служили кольца; Судьба, заведующая людскими жребиями, по свидетельству народного эпоса, куёт и связывает по две нити и тем самым определяет, кому на ком жениться (см. гл. XXV).
Как эмблема супружеской связи, кольцо в народной символике получает метафорическое значение женского детородного члена, а палец, на который оно надевается, сближается с фаллосом. В загадках кольцо или перстень изображаются так: “прийшов парубок до дивки: дай, дивко, дирки!” — “Стоит девка на горе, да дивуется дыре: свет моя дыра, дыра золотая! куда тебя дети? на живое (сырое) мясо вздета”.
В былине о Ставре-боярине не узнанная мужем жена открывается ему следующей загадкою:
Как ты меня не опознываешь?
А доселева мы с тобой в свайку игрывали:
У тебя де была свайка серебряная,
А у меня кольцо позолоченное,
И ты меня поигрывал,
А я тебе толды-вселды.

4. Петух, именем которого доселе называют огонь, почитался у язычников птицею, посвященною Перуну и очагу, и вместе с этим — эмблемою счастия и плодородия. Силою плодородия щедро наделила его природа, так что это качество петуха обратилось в поговорку. Вот почему при свадебных процессиях носят петуха; вот почему петух и курица составляют непременное свадебное кушанье; по этим же птицам гадают и о суженых:
а) девицы снимают с насеста кур и приносят в светлицу, где заранее припасены вода, хлеб и кольца золотое, серебряное и медное; чья курица станет пить воду, у той девицы муж будет пьяница, а чья примется за хлеб — у той муж бедняк; если курица подойдет к золотому кольцу — это сулит богатое замужество, если к серебряному — жених будет ни богат, ни беден, а если к медному — жених будет нищий; станет курица летать по комнате и кудахтать — знак, что свекровь будет ворчливая, злая.
b) Приготовляют на полу тарелку с водой и насыпают кучками жито и просо, а на покуте ставят квашню и сажают в неё петуха; если петух вылетит и кинется прежде на воду, то муж будет пьяница, а если на зёрна — муж будет домовитый хозяин;
с) Холостые парни и девицы становятся в круг, насыпают перед собою по кучке зернового хлеба, нередко зерно это насыпается в разложенные на полу кольца, и бросают в средину круга петуха; из чьей кучки он станет клевать — тому молодцу жениться, а девице замуж выходить.
d) Сажают под решето петуха и курицу, связав их хвостами, и замечают: кто из них кого потащит? По этому заключают: возьмет ли верх в будущем супружестве муж или жена. Или просто выпускают петуха с курицею на средину комнаты: если петух расхаживает гордо, клюет курицу, то муж будет сердитый, и наоборот, смирный петух сулит и кроткого мужа.
1 ноября, посвященное памяти Козьмы и Демьяна, святым ковачам свадеб, называется в простонародье курячьим праздником или курьими именинами; в старину в Москве 1 ноября женщины приходили с курами в Козьмодемьянскую церковь и служили молебны, а в Ярославской губернии в этот день режут в овине петуха и съедают целой семьею.
Зерновой хлеб, овин, где его просушивают, решето, которым просеивается мука, и квашня, где хлеб месится, — всё это эмблемы плодородия. В Германии по крику петуха девушки гадают о своём суженом; у римлян крик курицы петухом, в применении к браку, предвещал властвование жены над мужем.
 Русский след Русский след в мировой истории
Русский след Русский след в мировой истории