
«История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя» — академик Олег Николаевич Трубачев (1930–2002).
ВВЕДЕНИЕ.
Задача настоящей работы — возможно полнее охарактеризовать развитие терминологии родственных отношений у славян с лингвистической точки зрения, а также с учётом данных смежных наук — истории общества, истории материальной культуры, этнографии. Исследование основывается на сознании необходимости историзма — именно такого, как его понимает материалистическая диалектика, изучающая общественное развитие как закономерную эволюцию от матриархата к патриархату. Вопрос о развитии матриархата и патриархата является одним из основных в общественной истории, чем объясняется его значение и для настоящего исследования. Этот вопрос имеет в лингвистической литературе свою собственную историю, на которой следует остановиться подробнее.
В то время как прогрессивные этнографы и основоположники марксизма ещё в прошлом веке (ср. «Древнее общество» Л. Моргана, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса) пришли к важнейшему выводу об исторической первичности матриархата, лингвисты предлагали совершенно иную концепцию исторического развития индоевропейских народов. Эта концепция, которую было бы правильно назвать «филологической», позаимствовав это определение у Б. Дельбрюка, строилась в основном на длительном изучении классической древности, т. е. отдельных периодов древней истории греков, римлян, индийцев, а кроме того, на чрезмерном доверии к данным так называемой сравнительной мифологии при серьезной недооценке значительных уже в то время достижений смежных общественных наук. Естественно, что в таких исследованиях об индоевропейских древностях главное значение придавалось чисто лингвистическому анализу, сравнению форм. Отмечая и сейчас всю важность и далеко еще не исчерпанные возможности этого анализа, следует также признать и то, что вследствие тогдашнего уровня языкознания попытки исследований такого рода в значительной степени устаревали и воспринимались как наивные и бездоказательные уже многими лингвистами старших поколений.
Так, очень быстро оказались устаревшими этимологические толкования Ф. Боппа, фундаментальное исследование Пикте «Les origines Indoeuropéennes ou les Aryas primitifs». Но в то время как в поисках более точных, специально лингвистических решений недостатка не было, в общественно-исторической части этих исследований укрепилась рутина, в привычку вошло повторять старые утверждения об исконно патриархальном быте индоевропейцев. Такие воззрения на историю общественного развития сложились очень рано на основании недостаточного знания. Эта неправильная схема во всем существенном так и осталась достоянием индоевропейского языкознания, почти не обогатившись за всё время, несмотря на прогресс ближайших отраслей наук. Поэтому Б. Дельбрюк в своем труде «Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen» (Leipzig, 1889), стремясь к пересмотру большей части старых наивных толкований идоевропейских терминов родства, по сути дела присоединяется, хотя и с известной осторожностью, к «филологической» концепции, настаивая на первичности патриархата. Дальнейшие лингвистические исследования мало что добавили к этой точке зрения, вопрос, видимо, считается решенным удовлетворительно. К сожалению, фактическое пренебрежение исторической стороной вопроса, однобоко филологический характер исследований не прошли даром для индоевропейского языкознания, существенно обесценили его усилия в этом направлении и снизили значение его свидетельств для исторических наук.
После Б. Дельбрюка большую работу в этой области вёл О. Шрадер, в исследованиях которого апофеоз «филологической» концепции получил наиболее законченную форму. Выражение «филологическая концепция» в применении к О. Шрадеру — крупнейшему историку индоевропейских древностей, постоянно привлекавшему материалы археологии и этнографии, — звучит парадоксально; при всем этом оно оправдано, так как Шрадер лишь обобщил упомянутую популярную в индоевропейском языкознании точку зрения. Его труды, содержащие обоснование теории исконности индоевропейского патриархата, грешат теми же существенными недостатками, о которых говорится выше: при внешне исчерпывающей осведомленности о материальной культуре индоевропейцев — фактическое пренебрежение достижениями этнографии и общественной истории и непонимание исторического процесса[5]. Шрадер считает возможным категорически отрицать наличие у древних индоевропейцев матриархата, полагая, что Б. Дельбрюком в вышеупомянутом труде и им самим в «Sprachvergleichung und Urgeschichte» (стр. 533 и след. 2-го изд.) «создана настолько ясная картина древнеиндоевропейского семейного устройства, что о матриархате на индоевропейской почве просто не может быть и речи»[6].
Для Шрадера характерно отрицательное отношение к столь плодотворным сравнениям древней эпохи жизни индоевропейцев с остатками первобытного устройства у современных отсталых народностей, т. е. признание для индоевропейцев особого пути исторического развития[7]. Свидетельства Страбона и Геродота об особом положении женщины у кельтов, фракийцев, скифов, ливийцев, лидийцев, карийцев, мизийцев, писидийцев он истолковывает соответственно своей концепции. В частности, Шрадер считает, что матриархат существовал не у индоевропейцев, а у доиндоевропейских племен, к индоевропейцам же он проник отчасти в позднюю эпоху, нарушив агнатический характер индоевропейской семьи[8].
То, что писалось на ату тему в последующие годы, не представляет какого-либо отклонения от изложенной теории. Для этого достаточно сослаться на ряд различных лингвистических работ, из которых часть появилась уже в последнее время.
3. Файст[9] близок к О. Шрадеру в своих утверждениях о типичности для древнейших индоевропейцев патриархата. Следы матриархата, например, у кельтов 3. Файст объясняет тем, что индоевропейцы, пришедшие, по его мнению, из Азии, заимствовали материнскую организацию у местных доиндоевропейских племен.
Э. Герман[10] относится недоверчиво вообще к каким бы то ни было следам матриархата в индоевропейских терминах родства. Г. Хирт и Г. Арнтц[11] полагают, что знакомство с индоевропейскими терминами родства позволяет говорить о прочности большой отцовской семьи. Весьма типично высказывание Ж. Дюмезиля[12], поддерживающего точку зрения А. Мейе, что армянская «большая семья» исторической эпохи отражает состояние патриархальной семьи индоевропейцев.
Проблемой матриархата занимается Ю. Бенигни[13] при объяснении формы санскр. mātárā—pitárā и формы эллиптического двойственного числа pitárā(u) ‘родители’. Далее он исследует порядок слов ‘мать’, ‘отец’ при перечислении и женскую форму готск. bērusjōs ‘родители’. Желая во что бы то ни стало решить вопрос о матриархате у индоевропейцев отрицательно, Бенигни высказывает мысль о неравномерности развития культуры у древних индоевропейцев, при которой именно для стоявших ниже в культурном отношении индоевропейцев-кочевников (степные иранские племена) было характерно свободное положение женщины, в отличие от культурно развитых оседлых индоевропейцев (например, древние италики). Свободное положение германской женщины объясняется как «след» доиндоевропейского матриархата местного населения Северной Европы. Автор исходил из молчаливого постулата, что культурная дихотомия древних индоевропейцев была чем-то извечным, причём одни всегда были оседлыми, а другие всегда кочевали.
На самом деле очевидно, что племена с более высокой культурой представляли вторичную ступень в общественном развитии, в то время как кочевники-индоевропейцы сохраняли пережитки более глубокой древности. Поэтому отражение общей индоевропейской древности следует видеть именно в особом положении женщины, которое проявилось в разных концах индоевропейского мира. Попытка объяснить его у германцев заимствованием (у кого — неизвестно) выглядит совсем неубедительно. В. Краузе подходит к проблеме отражения матриархата, толкуя санскр. pitarau и mātarau[14]. Образование pitarau (по отцу) он объясняет главной ролью отца в семье, a mātarau (по матери) — тем, что отношение ребёнка к матери в древности являлось более очевидным, чем отношение к отцу.
Далее разбирается порядок слов при перечислении типа ‘отец — мать’, ‘отец и мать’ в индоевропейских языках[15]. Нам кажется, что не следовало бы излишне полагаться на порядок слов этого свободного словосочетания как на отражение древних родственных связей. Материал очень разнообразен: есть примеры различного порядка слов, вызванного частными причинами, ср. русск. мать-отца ввиду требований: метрики в русской народной песне.
Аналогичные вопросы затрагивает В. Крауэе в своей монографии «Die Frau in der Sprache der altisländischen Familiengeschichten»[16]. По его словам, роль женщины в древнеисландской литературе изображается следующим образом:
«Если повествуется о ней и её поступках, то это делается таким образом, что становится ясно: для сказителя саги исключительная самостоятельность и личные права женщины являются чем-то само собой разумеющимся. Как раз в этом обнаруживает древнеисландская культура крупный прогресс сравнительно со старшими ступенями культуры»[17].
Таким образом, совершенно очевидна тенденциозная сущность кратко рассмотренной концепции общественного развития индоевропейцев. Поэтому нельзя не отметить отдельных работ последнего времени, содержащих обоснование исконности матриархата у индоевропейцев, научную систематизацию соответствующих фактов и пережитков: George Thomson. Aeschylus and Athens (London, 1950, стр. 15–16, 204–205); А. В. Исаченко. Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания («Slavia», rocn. 22, 1953); Josef Hеjniс. ΘΥΓΑΤΡΙΔΥΣ — Prispevek k reseni probiemu organisace nejstarsi recke spolecnosti (LF, t. 78, 1955, стр. 162 и след.); E. Herold. Group-marriage in vedic society (АО, vol. 23, 1955, стр. 63–76); частично — M. Вudimir. Problem bukve i protoslovenske domovine («Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti», t. 282, 1951, стр. 12–13) и др.
В целом же и сейчас в зарубежном языкознании в значительной степени пользуется признанием старая теория об исконности индоевропейского патриархата; ср. типичное утверждение по этому поводу американского индоевропеиста К. Д. Бака: «… индоевропейская семья была явно не матриархальной» [18].
Что касается возможностей использования смежных общественных наук (в частности, этнографии) для обоснования материалистической теории развития от матриархата к патриархату, надо сказать, что они отнюдь не исчерпаны. В настоящее время можно говорить о новых достижениях и перспективах в этой области, которые помогут детальнее представить себе картину соответствующих общественных отношений. Во всяком случае, все эти поиски носят весьма плодотворный характер, не обязывают к чисто догматическому усвоению теоретической формулировки, выдвинутой прогрессивной этнографией и классиками марксизма еще в прошлом веке. Это, кстати сказать, тоже выгодно отличает материалистическую концепцию от «филологической», которая и по сей день производит впечатление довольно безотрадного повторения непроверенных утверждений зачинателей сравнительного языкознания.
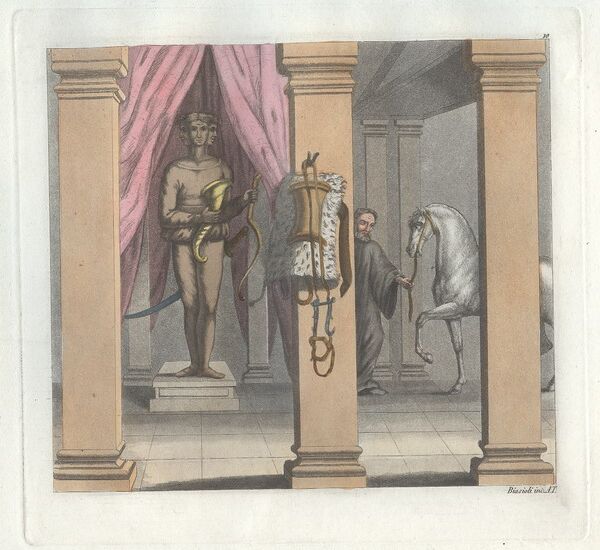
Храм Святовита Триглава
В данном случае мы имеем в виду известное в этнографии наличие у ряда индоевропейских и других народов древности поликефалическик (многоголовых) фигур; в частности для полабских и балтийских славян отмечает поликефалические изваяния Любор Нидерле[19], указывая на характерность таких фигур именно для славян в отличие от «каменных баб» соседних тюркских народностей. Происхождение их он считает невыясненным.

Совсем недавно опубликовал результаты своих наблюдений над этими изваяниями чехословацкий этнограф Л. Крушина-Чёрный[20]. Он также упоминает, между прочим, о поликефалических божествах славян: знаменитом четырёхликом Збручском идоле, далее — о Четыребоге, Триглаве, Свантевите, пятиглавом Поревите, семиглавом Ругиевите. Посвящая своё исследование генезису подобных изображений, Крушина-Чёрный приходит к ценнейшим для общественной истории выводам[21], основанным на изучении поликефалических фигур в различных культурных районах и языковых группах. Помимо славянских богов он привлекает галльские, греческие, фракийские, сибирские, индийские, ассирийские и наконец, божества Каппадокии в Малой Азии, на которых он специально останавливается. Автор полагает, что многообразие типов поликефалических фигур не допускает мысли об их миграционном распространении. Характера этих изображений нельзя объяснить ни при помощи солярного культа («всевидящее солнце»), ни при помощи культа трехфазовой луны.  Это — образы общественной организации, при которой они могли возникнуть. Интересна поликефалия каппадокийских фигур как отражение культа праматери. От неё идут две линии: одна в направлении поликефалии вообще, позднее — мужской поликефалии, другая в направлении полимастии («многососцовости»), т. е. абстрагированного изображения природного плодородия[22].
Это — образы общественной организации, при которой они могли возникнуть. Интересна поликефалия каппадокийских фигур как отражение культа праматери. От неё идут две линии: одна в направлении поликефалии вообще, позднее — мужской поликефалии, другая в направлении полимастии («многососцовости»), т. е. абстрагированного изображения природного плодородия[22].
Автор обращает внимание на необходимость проводить различие между поликефалией как первичным явлением (непосредственное отражение родовой организации) и дальнейшим развитием её как самостоятельного иконографического типа. Есть примеры мужской поликефалии и ряд переходных (от женских к мужским) форм. Интерес представляет первичная поликефалия — несомненный образ современной социальной организации и, насколько можно судить по полимастии и другим женским чертам фигур, — именно матриархального рода. В этом отношении интереснее всего круглые каппадокийские идолы.

Очевидно, что возможно полный учёт достижений смежных общественных наук всегда плодотворен для сравнительного языкознания, поскольку он помогает исключить непроверенные положения и оперировать наиболее доброкачественным материалом тем более, если этот материал по самой своей природе входит в ведение ряда самостоятельных наук. Это относится в нашем случае к лингвистическому анализу терминологии родственных отношений.
Современная материалистическая наука выработала конкретное представление о характере древнейшего общественного развития, отбросив ложные теории необязательности матриархата для индоевропейских племен[23].
«Лингвистический анализ основных терминов кровного родства в индоевропейских языках показал, — как свидетельствует чехословацкий лингвист А. В. Исаченко, — что индоевропейская терминология родства возникла в глубокой древности в условиях материнского рода и что она построена на принципе гиноцентрическом. Этот принцип отражает такое положение вещей, при котором ориентировочной точкой родственных отношений является женщина. Гиноцентрический принцип родственной терминологии предполагает существование материнского счёта родства (матрилинейности) и перехода мужа в клан жены (матрилокальность брака)» [24].
Далее остановимся очень коротко на оценке некоторых данных сравнительной мифологии, поскольку сравнительное языкознание в своих суждениях о семейно-родовом устройстве древних индоевропейцев в значительной мере полагается именно на её свидетельства. Это тем более важно, что в использовании данных мифологии лингвистами очевидны факты анахронизма.
Так, в характеристике мифологических воззрений древних славян мы решительно присоединяемся к точке зрения А. Брюкнера, который отвергал теории сложной славянской мифологии. А. Брюкнер считал, что такие теории обязаны своим возникновением фантастическим и сбивчивым вымыслам немецких и датских хронистов о полабянах, вымыслам, которые, однако, почти целиком были приняты недостаточно критичным славяноведением нового времени.
«Культ славян был культом природы и предков, а там нет места дуализму, и ни одно древнее свидетельство не знает о нём ничего» [25].
Однако фактическая бедность древней славянской мифологии, видимо, огорчала отдельных славяноведов, и они пытались всячески объяснить или даже оправдать её. Л. Нидерле[26] делает попытку «реабилитации» несложности славянской мифологии сравнительно с богатыми мифологиями некоторых других ветвей индоевропейцев. Но, как явствует из его же слов, эта попытка не даёт результатов. Он признаёт отсутствие доказательств противного и правильно считает это отнюдь не следствием отрывочности свидетельств исторических источников. В общем — в согласии с фактами — следует сказать, что славяне действительно не развили своей мифологии, их древние религиозные представления — примитивная демонология, в чем следует видеть скорее древнюю особенность, лучше сохранившуюся у славян. Это позволяет нам более трезво оценить данные поздней классической мифологии. Было бы странно пытаться реабилитировать такое состояние славянской мифологии или усматривать в этом «отставании» древних славян нечто зазорное.
В связи с этим интересно остановиться на одном из недавних исследований В. Махека[27], построенном на тех принципах и положениях, против которых нам кажется необходимым выступить здесь.
В персонажах мифологии В. Махек видит отражение индоевропейской «большой семьи» с pater familias — верховным богом но главе. Жену главного бога — греч. πότνια — санскр. pátnī — слав. panьji— он характеризует как лицо мало авторитетное в сравнении с самим божеством. Наличие у бога-отца двух сыновей (близнецы, Диоскуры, др.-инд. Aśvin-) и одной дочери (Usās— Ηώς — Aurora) Махек трактует как отражение патриархальной семьи, где ценились мужчины, сыновья: счастье — в том, чтобы иметь сыновей вдвое больше, чем дочерей[28].
«Оригинально то, что это — божественная патриархальная семья, созданная по образцу знатной семьи» [29].
Это вызывает серьезные возражения. История индоевропейской семьи объясняется путём фактического отождествления её с укладом жизни сравнительно очень поздних ступеней индоевропейской цивилизации (Греция, древний Рим и т. д.). По такому же методу привлекаются богато разработанные мифологические циклы отдельных индоевропейских народов, достигших высокого уровня социально-экономического развития. Известно, что самые богатые мифологические циклы — это своеобразная философия древнеиндийского, древнегреческого, древнеримского рабовладельческих обществ. После этого стоит ли удивляться тому, каким точным отражением земной социальной и семейной иерархии является небесная иерархия, о которой говорят эти мифы? При этом то, на чём лингвисты с уверенностью основываются как на объективном якобы отражении «патриархальности» индоевропейской семьи вплоть до описания взаимных обязанностей ее членов, всё это как раз и есть позднее в мифологии классической древности, идеологическое порождение соответствующего социального строя.
С другой стороны, древнее, несомненно, то, что составляет основу мифологии, — это следы наивного анимизма (ср. яркий пример греч. Ζεύς, санскр. Dyāus — в сущности ‘небо’, которое только потом превращено в Ζεύς πατή, luppiter ‘небо-отец’).
Не случайно, что целые ветви индоевропейцев, не развившие высокой рабовладельческой цивилизации, — балтийская и славянская — не могут противопоставить классической мифологии что-либо равноценное. Дело отнюдь не в отсутствии древней письменной традиции у этих народов, а в отсутствии таких развитых мифологических циклов.
Славяне и балты, сохранившие ряд архаических черт в языке и культуре, и в этом отношении обнаруживают древнюю особенность, все усилия обобщить славянские божества в каком-то едином пантеоне безуспешны: нет не только общей славяно-балтийской, но и общеславянской мифологии. Мифологические верования балтов и славян в основном сводятся к древнему анимизму — одушевлению грома (литовск. Perkunas, слав. perunъ), отдельных природных явлений. Вместо общеславянских богов под различными именами фигурируют местные многочисленные божества, в чем следует, вопреки В. Махеку[30], согласиться с Л. Нидерле[31], который совершенно справедливо характеризует таким образом западнославянских Свантовита, Триглава, Радогоста, правильно замечая при этом, что возвышение того или другого божества в некое подобие верховного бога было делом жрецов.

Классическая мифология отражает во всем существенном лишь классическую рабовладельческую древность, и было бы бесполезно привлекать её данные для «реконструкции» древнего индоевропейского социального и семейного уклада, когда не было еще и в зародыше тех социальных условий, образом которых является названная мифология.
Другой весьма серьезный анахронизм во взглядах на древнейшую эпоху общественной и языковой истории индоевропейцев также требует особого упоминания; вредность его усугубляется тем обстоятельством, что основным и наиболее последовательным его представителем в языкознании является А. Мейе — один из крупнейших лингвистов нашего времени. Ср., например, выдержку из предисловия к «Латинскому этимологическому словарю»[32]:
«Все слова не находятся на одном и том же уровне; есть слова „аристократы“ и слова „разночинцы“. Слова, обозначавшие наиболее общие идеи, например, mori и vivere, основные действия — esse и bibere, семейные отношения — pater, mater, frater, основных домашних животных — equus, ovis, sus, жилище семьи, которое было главной единицей, — domus и fores и др., представляют словарь индоевропейской аристократии, который распространился на всю территорию; эти слова обозначают понятия; они не имеют конкретной значимости: bos, ovis, sus относятся одновременно к самцу и самке; это слова, обозначающие блага, а не слова, называющие производителей (этих благ. — О. Т.); так domus и fores вызывают представление о жилище вождя, а не о материальном сооружении. Абстрактная значимость слов в соединении с аристократическим характером языка — существенная черта индоевропейского словаря. Но имелись и слова „народные“ по характеру…» Далее характеризуются эти последние слова, — эмоционально окрашенные, технические, плохо прослеживаемые в ряде языков, столь же неустойчивые, сколь устойчивы «аристократические» слова.
Сейчас трудно было бы не возразить на цитировавшиеся соображения. Существо высказывания составляет идея об «аристократическом» и «народном» в индоевропейском словаре и об «аристократическом» характере собственно индоевропейского словаря. Дело, конечно, не в одиозности понятия «аристократический» или противопоставления «аристократического» и «народного». Называя те или другие слова аристократическими, носящими общий, абстрактный характер, Мейе тем самым утверждает для них постоянство этого характера, что находится в противоречии с развитием всего индоевропейского словаря, очень длительным и богатым изменениями внутреннего и внешнего порядка. То, что Мейе рассматривает как наиболее абстрактное, «аристократическое», могло ко времени появления письменности пройти необыкновенно долгий путь развития, реальный характер которого, конечно, должен был неоднократно противоречить схеме Мейе. Абстрактность и «аристократичность» — всего лишь результат этого развития.
Свою категорическую классификацию Мейе строит на засвидетельствованной письменностью эффективности или аффективной нейтральности слов. Но ведь известно, что аффективность или её отсутствие — не раз навсегда данное свойство. Ясно поэтому, что нельзя согласиться с Мейе, утверждавшим наличие таких «аристократических» слов, которые, независимо от времени, всегда «лишены аффективных оттенков значения и имеют минимум конкретного значения» [33].
Следует отметить, что отдельные исследователи критиковали эту теорию. Ср. возражения Ф. Шлехта[34] против попытки Мейе объяснить утрату индоевропейского «аристократического» *pətēr ‘отец’ в балто-славянском языке как победу «низшего, народного» словаря над «аристократическим». А. Исаченко[35] верно заметил, что мало обоснованная смелость социологических выводов Мейе о древних индоевропейцах довольно странно сочетается с его известной осторожностью в чисто лингвистических построениях.
Как мы видели выше, для большинства исследователей прошлого характерно сознательное или бессознательное модернизирование древних семейно-родовых отношений, привнесение в них элементов современной парной семьи. Это давало не только превратную картину самих исторических условий, но и приводило подчас к неправильному объяснению истории и этимологии слов. Однако отрицать значение большой работы по этимологическому исследованию имен родства было бы немыслимо. Задача состоит в том, чтобы, изучив проделанное в этой области, оценить материал с принципиально правильной позиции исторического материализма.
В специальном обзоре литературы нет необходимости, так как крупные монографии по нашей теме (история славянских терминов родства) отсутствуют, а тот объёмистый материал, который имеется в разнообразных по форме и содержанию источниках, будет рассмотрен по ходу изложения. Здесь мы позволим себе кратко охарактеризовать лишь важнейшие исследования, их удельный вес, а также общее состояние изучения вопроса.
Изучению славянских терминов родства посвящена только одна работа — сочинение русского лингвиста П. А. Лавровского[36]. Труд этот, написанный немногим менее века назад, давно уже устарел и сохраняет сейчас лишь историческое значение. Но если учесть, что в то время славянская этимология находилась в зачаточном состоянии, а многие важнейшие предварительные работы ещё не были осуществлены, в частности отсутствовали славянские этимологические и исторические словари, легко будет понять необходимость труда Лавровского для своего времени. В этом отношении знаменательно то, что последующие исследователи прибегали к нему как к основному источнику для изучения славянских имен родства. Так, например, Б. Дельбрюк, обобщая сведения по индоевропейским именам родства, черпает славянский материал в значительной степени из книги Лавровского.
Монография Б. Дельбрюка — тоже единственная монография об индоевропейских терминах родства — отличается высоким для того времени научным уровнем. Что касается деталей этимологического исследования терминов родства, то индоевропейское языкознание в целом сделало очень большие успехи со времени появления в свет книги Б. Дельбрюка. Так, многие слова, признаваемые в книге тёмными, получили этимологию в ряде случаев — весьма надежную. Работа Б. Дельбрюка, ставившая перед собой целью описание индоевропейской родственной терминологии, естественно, излагала вопросы терминологии отдельных индоевропейских ветвей самым сжатым образом. Характерно, что, например, несравненно превосходя работу П. Лавровского о славянских терминах родства как в научном, так и методологическом отношении, в разработке славянского материала книга Б. Дельбрюка основывается главным образом на материалах Лавровского.
Совершенно очевидно, что обобщение всего сделанного в этой области после труда Б. Дельбрюка, применительно к славянским языкам, является насущной необходимостью. О понимании этой необходимости свидетельствует работа чехословацкого учёного А. В. Исаченко «Славянская и индоевропейская терминология родства в свете марксистского языкознания» (1953). В целом она носит характер предварительного исследования с принципиально новых — историко-материалистических — позиций. Естественная сосредоточенность при этом на общих и важнейших вопросах и жесткие рамки журнальной статьи, конечно, не позволили автору более полно обобщить результаты этимологических исследований прошлого.
Кроме этой статьи за последние годы не появилось ни одной работы на эту тему, что чрезвычайно затрудняет попытку общего исследования, особенно если учесть, что количество частных исследований (этимологий) отдельных слов находится в резком контрасте с количеством общих исследований: их опубликовано очень много, и представляют они чрезвычайное разнообразие как в принципах толкования, так и в его качестве.
Попытка обобщенного исследования чрезвычайно усложняется также спецификой самого материала. Основная трудность изучения истории настоящей группы терминов заключается в сложной смене типов обозначения родства, причём для древнего родового общества свойственна классификаторская система каждого индивида — член определенного брачного класса, а для современного общества свойственна описательная система обозначений родства — каждый индивид имеет собственное обозначение. Об этом своеобразии изучаемой группы терминов писал в последнее время Э. Бенвенист[37].
При смешанном браке родовой древности брачные отношения могли осуществляться только между мужчинами и женщинами разных брачных классов. В этих рамках брак был смешанным в полном смысле слова, прямым следствием чего была невыясненность отцовства. В таких условиях моими отцами на полных правах могли считаться как мой возможный отец, так и все его братья, даже все отцы моих отцов, т. е. мои отцы во втором поколении (ср. ниже об отношениях и.-e.*pəter — слав. stryjь). Все вместе они составляли класс старших мужчин, и применяемые к ним термины носили, естественно, качественно особый, более широкий характер, классифицировали их. Так, известно, что аборигены Австралии всегда обозначают отца тем же термином, что и брата отца[38].
Мать ребёнка, напротив, всегда была известна в силу естественных причин, но в определенную эпоху и её обозначение было шире того, которое привычно дли нас, классифицировало её по отношению к ребёнку наравне с её сестрами — тетками ребёнка. Поэтому в тех же туземных австралийских языках мать и сестра матери называются совершенно одинаково; отголоски существования в древности целого класса матерей содержат также древнеиндийские мифы[39].
Действующая в современных индоевропейских языках описательная система родства описывает индивидуальные отношения родственников, разграничивая то, что не было существенно в древности. Таким образом, различие обеих систем принципиально и весьма глубоко, и это в большой степени затрудняет для нас понимание развития родственной терминологии. Неясность многих моментов не мешает, однако, уяснить основную линию развития системы обозначения родства. Описательная система сменила классификаторскую у индоевропейцев, судя по всему, в глубокой древности, и, говоря о славянской терминологии родства, мы понимаем, насколько она далека от классификаторской системы родства, от матриархата в целом. Но в материальном отношении основные славянские названия являются непрерывным продолжением тех индоевропейских, которые порождены древнейшей эпохой. Закономерно поэтому предположить наличие у них соответствующих материальных, структурных следов и возможных семантических пережитков. Выявлять эти следы помогает этимологическое исследование. В этом нужно усматривать наиболее интересную и значительную задачу истории славянских терминов родства.
Отсюда, например, многозначность терминов родства, либо сохранившуюся (и.-е. *nep(o)t- I. ‘племянник’; II. ‘внук’), либо вскрываемую этимологически (слав. otьcь ‘отец’<; *attikos ‘отцов’, ‘принадлежащий отцу’, *atta), нужно объяснять как наслоение двух упомянутых систем родственных обозначений, исторически разновременных, но не вытеснивших одна другую полностью.
В свете этого ясно заблуждение О. Шрадера[40], видевшего в переносе значений ‘дядя’ ↔ ‘племянник’ («von Oheim zu Neffe, Neffe zu Oheim») специфически немецкое обыкновение, сложившееся в придворных кругах. Напротив, в этом плохо сохранившемся явлении мы, возможно, имеем слабый отголосок древней системы обозначений родства. О том, что считать названный случай чем-то исключительно немецким было бы ошибкой и что дело здесь, вероятно, гораздо серьезнее, говорит аналогичное словоупотребление в современном таджикском языке, где оно, кстати, представлено несравненно шире и выражается в том, что родичи по восходящей и нисходящей линии в обращении могут как бы обмениваться взаимно своими родственными названиями: так, сын, обращаясь к отцу, называет его «сыном», отец называет сына «отцом» [41].
Таким образом, перефразируя слова А. Соммерфельта[42], относящиеся к изучению цивилизации не европейских первобытных народов, мы должны будем сказать, что мы ничего не поймём в развитии древне-индоевропейской родственной организации, если будем по-прежнему смотреть на неё через европейские очки. Больше того, следы древней классификаторской системы, сохранившиеся даже в современной славянской терминологии родства, должны определенным образом настораживать исследователя и побуждать к основательному пересмотру многих распространенных точек зрения.
Что касается основных индоевропейских терминов родства — *pətēr ‘отец’, *mātēr ‘мать’, *dhughətēr ‘дочь’, *bhrātēr ‘брат’, *suesor ‘сестра’, то возможности этимологического исследования этих древнейших слов крайне ограничены. В прошлом не было недостатка в попытках истолковать их. Но большинство этих толкований давно отброшено как гадательные и недоказуемые. Для языкознания нового времени характерно почти полное отсутствие опытов в этом направлении[43]. О довольно популярной с давнего времени «Lallwörter»-теории, согласно которой pa-ter, ma-ter происходят из слов «детского языка» ра-, ma-. Здесь только следует заметить, что эта теория вряд ли правильно объясняет названные слова.
Известное положение о «не возможности определить этимологию» упомянутых основных индоевропейских терминов родства (К. Бругман) имеет смысл как признание недостаточности возможностей, находящихся в распоряжении исследователя, но отнюдь не означает принципиальной порочности попыток искать этимологию этих слов. В этом случае исследователи отдельных архаических языков находятся в более выгодном положении по сравнению с нами. Так, А. Соммерфельт в своей известной книге «La langue et la société», специально отмечая, что в первобытном языке типа аранта мы наблюдаем несравненно более выраженное влияние уровня цивилизации на структуру языка, чем в европейских языках, считает себя вправе этимологизировать, например, слово из языка аранта maia ‘мать’ < mа, корень, означающий в том же языке ‘давать больше, давать много’[44].
Славянские термины родства, будучи закономерным развитием индоевропейских терминов, вместе с тем обнаруживают в ряде отношений существенное качественное своеобразие. Прежде всего, следует отметить характерное развитие производных форм, каковыми являются названия, подчас даже непосредственно продолжающие индоевропейские формы. Далее, на славянских терминах родства оставило определенный отпечаток обособление славянской ветви древнего индоевропейского языка, которое привело к оформлению ряда местных форм, местных терминов, расходящихся коренным образом даже с обозначениями в близкородственных балтийских языках, ср. слав, tьstь — литовск. uosvis ‘тесть’; слав. sъnоха — литовск. marti ‘сноха, невестка’. То, что это не получило слишком большого развития, объясняется тем известным обстоятельством, что в значительной своей части терминология родственных отношений оформилась уже в общеиндоевропейском языке. Однако для образования некоторых исторически поздних терминов обособление славянства сыграло решающую роль в том смысле, что эти термины созданы уже чисто местными средствами. Так оформились славянские названия мачехи, отчима, пасынка, падчерицы, возникновение которых при родовом строе и групповом браке было бы бессмысленным, как отмечает А. Исаченко[45]. Эти термины образовались поздно, в условиях отцовской семьи, при парном браке. Столь же обособленно осуществляется их образование, например, в германской группе языков. Для них нет общеиндоевропейских форм. В итоге длительного развития славянские термины родства обнаруживают значительное многообразие форм и то «нюансирование степеней родства языковыми средствами»[46], которое обращает на себя внимание исследователей.
Избранная лексическая группа является одной из важнейших в основном словарном фонде языка. Общность основного словарного фонда славянских языков проявляется, между прочим, и в терминологии родственных отношений, что важно и как свидетельство для истории языка, и как показатель важнейших социально-исторических процессов в жизни славянства. Терминология родства теснейшим образом связана с названными процессами.
Исследование данной группы лексики тем более целесообразно, что оно поможет сформулировать выводы, небезынтересные для истории общественного развития даже в том случае, если они явятся всего лишь подтверждением данных, уже добытых историческим исследованием. Поскольку данная лексическая группа объединяет термины, выработанные людьми в процессе истории для определения своих отношений друг к другу, есть основания полагать, что изучение этих терминов даст известный материал для иллюстрации отдельных моментов древнего развития мышления, ср. соответствующие разделы III главы, посвященные изучению связи названий: ‘рождаться, быть родственным’ > ‘знать’; ‘рождать(ся)’ > названия различных частей тела.
Объект настоящего исследования — терминология родства всех славянских языков (с учётом доступных диалектных материалов), причём рассматриваются термины и кровного родства, и свойственного родства. В заключение рассматривается ряд древнейших терминов общественного строя, а именно те из них, которые непосредственно примыкают к терминологии родства. Привлечение этой группы терминов оправдано тем, что, как известно, история родственных отношений есть уже история общественных отношений, что особенно очевидно для родового строя.
При известной исторической разнородности славянской терминологии родства следует помнить, что по древности своего первоначального оформления и длительности развития, а отсюда — по сложности многих моментов своей истории терминология родственных отношений занимает исключительное положение в основном словарном фонде. Так, в указанных отношениях ей, очевидно, уступают названия растений, злаков, деревьев, домашних животных, значительная часть названий предметов окружающей действительности и основная масса названий предметов хозяйственной деятельности. Даже такая, казалось бы, древняя группа, как названия частей человеческого тела, во многих своих деталях, как выясняется ниже, восходит к обозначениям родства, рождения.
Примечание:
5. О. Schradev. Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3. Aufl. Jene, 1906–1907; его же. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 1. Aufl. Strassburg, 1901; его же. Die Indogermanen, ряд изданий (русский перевод О. Шрадер. Индоевропейцы. СПб.,1911. Иэд. 2. М: УРСС, 2003).
6. О. Schrader. Reallexikon, стр. XXXII.
7.О. Schrader. Reallexikon, стр. XXXII.
8. О. Schrader. Reallexikon, стр. 347, 564–566.
9 S. Feist. Die Indogermanen und Germanen. 3. Aufl. HeJle, 1924, стр. 100–101.
10. Е. Hermann. Einige Baobachtungen an den indogermanischen Verwandtschafts-namen. — IF, Bd, 53, 1935, стр. 100–101.
11. H. Hirt,H. Arntz. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprechwissenschaft. Halle, 1939, стр. 30.
12. G. Dumézil. Séries etymologiques arméniennes. — BSL, t. 41, 1940, стр. 68–69.
13. J. Benigny. Die Namen der Eltern im Indoiranischen und im Gotischen. — KZ, Bd. 48, 1918, стр. 235–236.
14. W. Кrause. Die Wortstcllung in den zweigliedrigen Wortverbindungen. — KZ, Bd. 50, 1922, стр. 103.
15. W. Кrause. Die Wortstcllung in den zweigliedrigen Wortverbindungen. — KZ, Bd. 50, 1922, стр. 104.
16. «Ergänzungshefte zur KZ», 1926, № 4.
17. W. Кrausе. Die Frau in der Sprache der altislandischen Familiengeschichten, стр. 7.
18. С. D. Buck. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indoeuropean Languages. Chicago, 1949, стр. 93; H. Galton. — «Zschr. f. Ethnologie», Bd. 82, 1957, стр. 121.
19. Cp. L. Niederle. Rukovet’ slovanskych starozitnosti. Praha, 1953, стр.308–309.
20. L. J. Кгusina-Cerny. Spolecensky puvod zobrazovani vicehlavych bozstev. «Československa ethnografie», 1955, № 1. Предварительные соображения см. его же. — Three New Circular Alabaster Idols from Kültepe. — АО, vol. 20, 1952, стр. 601–606.
21. См. L. J. Кrusina-Cerny. Spoiecensky ptuod zobrazovani vicehlavych bozstev, 46–49.
22.Там же, стр. 69.
23. См. M. О. Косвен. Очерки истории первобытной культуры. М., 1953, стр. 108.
24. А. В. Исаченко. Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания. — «Slavla», rоcn. 22, 1953, стр. 61.
25. А. Вrüсknеr. Fantezje mitologiezne. — «Slavia», rocn. 8,1929, стр. 342. О литовской мифологии см. его же. Starozytna Litwa, Ludy i Bogi. Warszawa, 1904, стр. 147 и след. Существование у древних индоевропейцев очень развитой мифологии справедливо отрицает, например, Я. Шарпантье, допускающий наличие культа предков, обожествление сил природы, неба («The Original Home of the Indo-Europeans». — «Bulletin of the School of Oriental Studies», vol. IV, part I. London, 1926, стр. 158). Что касается новых исследований по славянской мифологии, то нельзя не отметить, что они не представляют шага вперед по сравнению с теорией А. Брюкнера, напротив — носят отпечаток известного эклектизма. Здесь имеются в виду две работы; St. Urbanczyk. Religia poganskich Slowian. Krakow, 1947; Roman Jakobson. Slavic Mythology. — «Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend», vol. II. New York,19S0, стр. 1025–1028. С одной стороны, в этих работах говорится о необходимости критического подхода к приукрашенным рассказам хронистов о славянском язычестве (St. Urbanсzуk. Указ. соч., стр. 6), о недостаточной вероятности общеславянского культа даже такого бога, как Перун (там же, стр. 24–25), с другой стороны — оба названных учёных допускают, несмотря на скудность данных, существование общеславянского пантеона с единый верховным богом во главе (St. Urbanczyk. Указ. соч., стр. 14–15; R. Jakobson. Указ. соч., стр. 1026).
26. См. в последнем издании: L. Niеdеrlе. Rukovet’ sbvanskych sterozitnosti. Praha, 1953, стр. 285.
27. V. Machek. Essai comparatif sur la mythologie slave. — RES, t. 23, 1947, стр. 48–65. 28. Там же, стр. 53.
29. V. Machek. Указ. соч., стр. 53.
30. V. Machek. Указ. соч., стр. 53.
31. Там жe, стр. 55.
32. Еrnоut — Mei11еt, стр. VII ( сокращения см. в списке литературы).
33.Там же.
34. F. Specht. Zur baltisch-slavischen Spracheinheit. — KZ, Bd. 62, 1935, стр. 249, сноска 2.
35 A. В. Исаченко. Указ. соч., стр. 47.
36. П. Лавровский. Коренное значение в названиях родства у славян. — Зап. ИАН. т. XII. № 2. СПб., 1867, приложение. Изд.2. М.: УРСС, 2005.
37. BSL, t. 46, 1950, procуes-verbaux, seance du 4 mars 1950, стр. XX–XXIX. Подробнее см. G. Thоmsоn. Aeschylus and Athens. London, 1950, стр. 25 и след., 402 и след.
38. А. Максимов. Системы родства австралийцев. Отд. отт. из «Этнографического обозрения», кн. 92–93, стр. 11; A. Sоmmеrfе1t. La langue et la société. Caractères sociaux d’une langue de type archaïque. Oslo, 1938, стр. 151.
39. A. Максимов. Указ. соч., стр. 11; A. Sommerfelt. Указ. соч., стр. 151; Е. Hего1d. Group-marriage in vedic society. — АО, vol. XXIII, 1955, стр. 63 и след.
40. О. Sсhradеr. Über Bezeichnungen der Heiratsverwandtschaft bei den indo-germanischen Völkern. — IF, Bd. 17, 1905–1906, стр. 15–16.
41. Ср. А. К. Пиcapчик. О некоторые; терминах родства таджиков. — «Сборник статей по история и филологии народов Средней Азии, посвященный 80-летию со дня рождения А. А. Семенова». Сталинабад, 1953. Такое явление, но в гораздо более широких размерах отмечают исследователи для языка племени аранта в Центральной Австралии. В этом языке взаимность терминов для ряда категорий родства является совершенно обязательной. Так, названия aranga ‘дед по отцу’ и pala ‘бабка по отцу’ могут соответственно значить ‘сын моего сына’ и ‘дочь моей дочери’. У австралийского племени koko-yimidir, наблюдается словоупотребление, курьезно совпадающее с описанным выше немецким: взаимный характер носят названия дяди и младшего племянника (см. А. Максимов. Указ. соч., стр. 13, 21; A. Sommerfelt. Указ. соч., стр. 154). Следов этой классификаторской взаимности мы ещё коснемся ниже, при разборе слав. vъnukъ — ВНУК.
42. A. Sоmmerfе1t. Указ. соч., стр. 7.
43. Исключение представляет, пожалуй, только *suesor ‘сестра’, ср. его этимологию в последнее время у В. Пизани, поддержанную австрийским лингвистом М. Майрхофером, см. подробно об этом ниже.
44.A. Sоmmerfе1t. Указ. соч., стр. 159. См. там же другие примеры.
45.А. Исаченко. Указ. соч., стр. 76.
 Русский след Русский след в мировой истории
Русский след Русский след в мировой истории