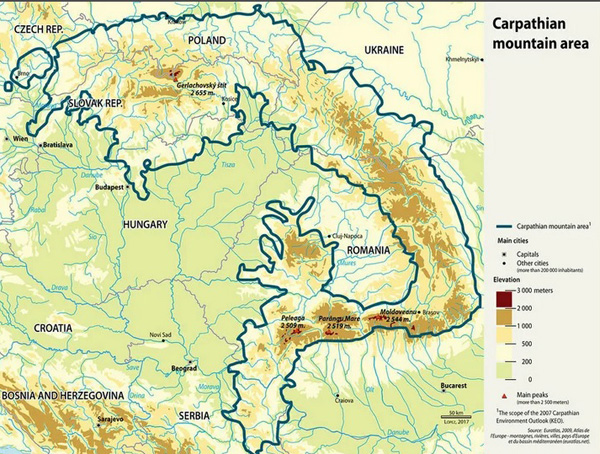
РУСЬ УГОРСКАЯ
Измаил Иванович Срезневский.
«Отрывок из опыта географии Русского языка» («Вестник Императорского Русского Географического Общества», ч. IV, 1852).
§ 3. Народная словесность.
Со своеобразным развитием наречия у русинов угорских соединилось, как и везде, своеобразное развитие народной словесности. Эта связь внешняя уравновешивается ли с связью внутреннею, т.е. на столько ли и в словесности, как в наречии, сохранилось остатков от отдаленной старины, на столько ли и в ней, как в наречии, отпечатлелось влияние чужеземщины, это покамест остается неизведанным. Верно только то, что древнее достоинство выражения – достоинство выбора оборотов и слов, и уравновешивание мысли с её формой – в прозаической фразе и в стихе уже тускнеет, что оно уже не признается необходимостью и теми рассказчиками старинных эпических преданий, которые собирают вокруг себя гурьбу молодежи, в поле и дома слушать свои казки, и этой молодежью, когда она тоже гурьбою или поодиночке, в поле и дома напевает свои песни, и отчасти всеми, когда обряд или частный случай вызывает слово к соучастию в жизни народной – торжественным ли приветом, или скорбным причитанием, или песнею, или присказкой, или пословицей и поговоркой. Слог прозы и поэзии утратил уже кое-что из первообраза своего величия и простоты, фраза – свою законченность, стих – свою правильность меры и соответствие с мыслью и с музыкой.
Предполагая, что это будет очевидно из отрывков, которые приведены после, я не стану здесь представлять особенных примеров, а остановлюсь несколько на обозрении разных родов народной словесности русинов закарпатских.

1) Предания старины и сказки, насколько могу судить о них по тем немногим, которые удалось мне слышать и читать, касаются или мифического мира русалок, упырей, летавиц и т.п., и его отношений к миру действительному, или войн с татарами и турками, их впадений в Русь, опустошений и т.п., что всё относится народом к древности безвременной, или враждебных отношений к мадьярам и волохам, и разных делишек жидов и цыган, под именем которых русины разумеют и других иностранцев, заходивших и заходящих к ним поодиночке для разных промыслов, или наконец дел гуцулов, подвигов их отваги и хитрости, великодушия и жестокости, славолюбия и себялюбия. Из них только рассказы о гуцулах, одушевляя рассказчиков сочувствием к этим любимым героям старины народной, исполняются с тем достоинством, которое может напомнить о древних красотах народной эпопеи русинов.

II. Песни русинов закарпатских, не отличаясь от других южно-русских песен общим характером изложения и метром стиха, представляют, впрочем, некоторые любопытные особенности.
Более всех других бросается в глаза их короткость. Тех больших песнопений, которые ещё можно слышать и в Малороссии от отживающих бандуристов и слепцов, и на Дону и Урале – от стариков-казаков, и на Волге – от бурлаков, и на Белом море – от промышленников, — тех песнопений, в которых древность полумифическая или старина, ещё не забытая памятью народа, выражается полными картинами, у русинов закарпатских уже нет, сколько знаю, совершенно. Напротив того, большая часть их песен народных – не песни, а песенки, много по два или по три куплета, или, как там выражаются, натяга, или устяга, а самые любимые – по одному куплету. В этом отношении русинов закарпатских можно сравнить с мазурами, краковяками.
Только в песнях обрядных русин закарпатский остаётся при прежнем обычае повторять музыкальный напев раз по десяти, пятнадцати и более. При таком пристрастии народа к песенкам, эпическая поэзия, очевидно, должна была сдать своё место лирической, и замерший дух её тлеет ещё, как под пеплом, в отрывочных возгласах о старине, ещё не совсем отжившей, и не угас ещё совершенно только потому, что есть ещё воспоминания о прошлом. Певцы этих возгласов о старине – горные пастухи. На полонинах Верховины и Краины ещё слышны они, как песни любимые, — но уже любимые все менее. Жаль ещё пастуху расставаться с ними, но он уже чувствует, что приходит пора, и погребает их. Вот песня, в которой описывается это погребение песен старины:
Пишли вивцы въ полонину сами биленькыи,
А за ними вивчярики, сами старенькыи.
А чому вы, вивчярики, та не спивате,
А де свои спиваночки, та подивате?
Ой мы свои спиваночки подиваме,
Въ полонини, як въ чужини, поховаме.
В полонини, якъ наниви, посiеме, посiеме.
Черноу земjоу, сухоу травку покрыеме, покрыеме.
Ой посiеме спиваночки довчими путями,
Ой будеме ихъ обливати гырькими слёзами.
А муть туды вивчярики з вивцями ходити,
Будут наши спиваночки квитками сходити.
Муть за нами вивчярики та овечки пасти,
Будут наши спиваночки за кресаню класти. (* Несколько иначе в Ćasopisu Ć. Mus. 1839. Стр. 48.)
Эта песня о песнях – одна из самых больших, а те эпические возгласы, о которых было вспомянуто, все менее или более такой формы и величины, как следующие образцы их, взятые наудачу:
I.
За гурою высокою мисячокъ стемнився.
Ишов Дòбошя та зъ топирцемъ, нудно исхилився.
Ой Дòбошу, ой Дòбошу, чому ты схилився,
Ци не чуешь пудъ Деренью, югашъ запузнився!
Иди Дóбошу, до югаша, най на тебе згляне,
Най на тебе вучми згляне, та доловъ полягне.
II.
На Брустини загремило, на ясини блисло:
Бодай тебе, татарчуку, по пудъ сердце стисло.
III.
Ай ке бымъ знавъ, ожъ погыну,
Запаливъ бымъ всю Краину:
Най вутъ свого лучче згыне,
Чимъ чутьъ злого татарина.
IV.
Як ся вернувъ, як ся вернувъ
Плинтва до господы,
Ажь Плинтвиха, до зла лиха,
Не зна вже породы;
А Плинтвята небожята,
Што те сухе листjе:
Порозвiяло их витромъ,
Позанесло в нистjе.
Став же Плинтва по пудъ хатоу,
Коника пускае,
На дви полы, на чотыри,
Шабевку ламае.…
V.
В Мукачевскомъ замку
Знавъ jемъ Марианку.
Я ю добре знавъ.
Кедь ю съ рукъ выпущу,
Геть отити мушу.
Потишь тя Богъ съ неба,
Ожь прочь иду отъ теба,
До поля, на турка,
Отъ турка на брандербурка.
Буду воевати
И кровъ проливати
За васъ, дивчата.
Вот что осталось на память от старины, на сожаление о прежних рапсодиях.
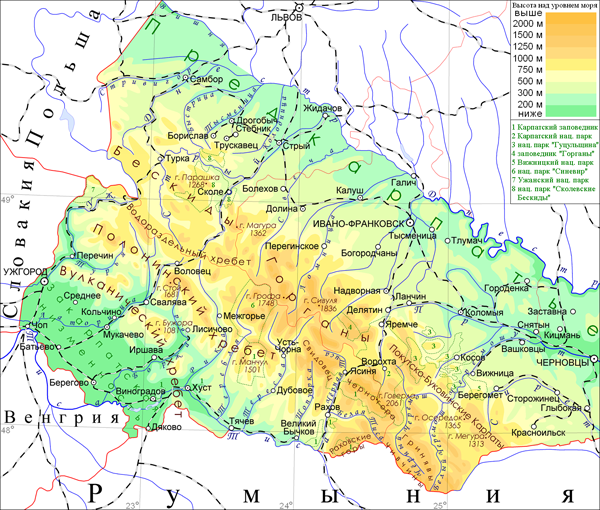
Песни лирические удобные могли сковаться в тесные рамки двустишия и четверостишия, не споря с неохотой народной повторять много раз один и тот же напев, с любовью менять напевы один на другой, как можно чаще. Бесконечное множество песен – бесконечное множество напевов, раздолье для развития музыкального чувства народа; и это чувство в самом деле нигде не развито в такой степени между южно-русским народом, как там в горах Бескидских, где его лелеет эхо утесов и лесов, где ни одно счастливое созвучие не замрет не услышанное, хотя бы и не было желания заставить его слушать, где поэту с голосом легче сделаться простым певцом, чем певцу без голоса – поэтом. А ведь те рапсодии, эпопеи в 500 и более стихов, которые напевают и у нас, на Руси, как и в Сербии, в Шотландии, как и на берегах Гвадалквивира, одинаково наскучают однообразием своих напевов. Чтобы дать хоть какое-нибудь понятие о лирических песнях русских горян, привожу несколько спиванок:
I.
Ой кобы мъ я така красна, якъ та зоря ясна,
Свитила бы мъ на все поле, николи не згасла.
— Ой кобы сь ты была красна, якъ ясна зоренька,
Не свитила бы сь, якъ сонце, у мое серденько.
II.
Ой дуду, дуду, дуду!
И я иду до дому.
Каждый ид своёму,
Лем я не маю дъ кому.
III.
Ей лают ме, лают, еж я ходзу за ню:
Болитъ мое сердце, кедь попатру на ню.
IV.
Шла дивчино лесомъ, заплакала гласомъ:
Плачу часомъ зъ лесомъ, сама зъ собовъ часомъ.
V.
Ей жала и жала, уризала я ся,
Уризала сердце за мого Ивася.
VI.
Бодай тебе, муй миленькый, стулько разъ кололо,
Кулько разы твое личко было коло мого.
VII.
Мои овци яловы,
Даюць млика, як воды.
Ей хто жь ми ихъ подоиць,
Кедзь я мушу отсадзь приць,
Кедзь ми серденько болиць:
Пуйду я ся утопиць.
Очень естественно, что такие короткие песни, теша горное эхо разнообразием напевов, легко делаются и принадлежностью плясок. Поются они, как шалалайки, коломейки, вертлянки, как плясовые, каждым плясуном отдельно, так что тот и плясун лучше, который умеет придумать более хорошеньких песен, — хорошеньких более по напеву, чем по содержанию.

Только песни обрядные отличаются характером содержания; в них более старины, более фантазии образов и выражений. Впрочем, большая часть тех из них, которые мне удалось узнать, знакомы мне и из других мест. Об обрядовых песнях горян можно заметить, что в число их включены и те, которые в других местах не составляют принадлежности обряда. Поэтому в числе колядок поется и следующая песня:
Въ недилю рано мати сына лала.
Мати сына лала, та проклинала.
Мати сына лала, зъ дому выганяла.
— Иди, сыну, зъ домова, абы мъ тя незнала.
Казавъ брать старiй сестри хлиба напечи,
А середушшiй коня вывести,
А наймолодшiй коня осидлати.
Найстарья сестра хлиба напекла,
А середушша коня вывела,
А наймолодша коня осидлала,
Коня осидлала, тай ся звидовала:
Колижь, братцю, въ насъ гостейкомъ будешь
Возьми, сестрице, билый каминецъ,
Билый каминецъ, легкое перо,
И пусти ты ихъ ув тихый Дунай;
Кедь билый каминецъ на верха сплыне,
А легке перо на спидъ упаде,
Втоды въ васъ, сестрици, братъ вам буде.
Коли сонейко на зипак зойде.
А мисяцъ ясный знеба спаде,
Втоды въ васъ, сестрици, братъ вамь буде.
Навернувъ конемъ от схода соньце
И поихавъ си у темный лисочокъ.
Выихавъ овинъ у чистое поле.
Ставъ му коничокъ билымъ каминьцемъ,
Винъ молодейкый зеленымъ яворомъ,
Ой стала мати за сыномъ плакати,
И пишла она jого выглядати.
Вышла она си въ чистейке поле,
Въ чистейке поле, въ болоничейко.
Тай ставъ jеи дождикъ кропити
Стала она си на билый каминь,
На билый каминь, пидъ зеленъ явиръ,
Ей сталаи jеи мушки кусати,
А стала она галузки ломати.
Прорик яворецъ до неи словце:
Эй мати, моя мати, мене сь прокляла.
Не дала есь ми в сели кмечати,
Ищи ми не дашь въ поле стояти.
Билый каминецъ мiй сивый коничокъ,
Зеленее листья мое одинья,
Дрибни прутики мои пальчики.
А мати jего ся розжаловала,
Тай на порохъ ся розсiяла.
Подобных песен между колядками, щедровками, гаивками, купальницами, веснянками и яснянками очень много. Невольно подумаешь, что не без важной же причины поэзия народная, отделившись от жизни, скрылась в обряде и бережётся там, как бережется древность в музее – целая, но не живая, не пробуждающая ничего, кроме воспоминаний.
Почти то же можно сказать не только об обрядовых причитаниях над мёртвыми, но и о песнях заздравных.
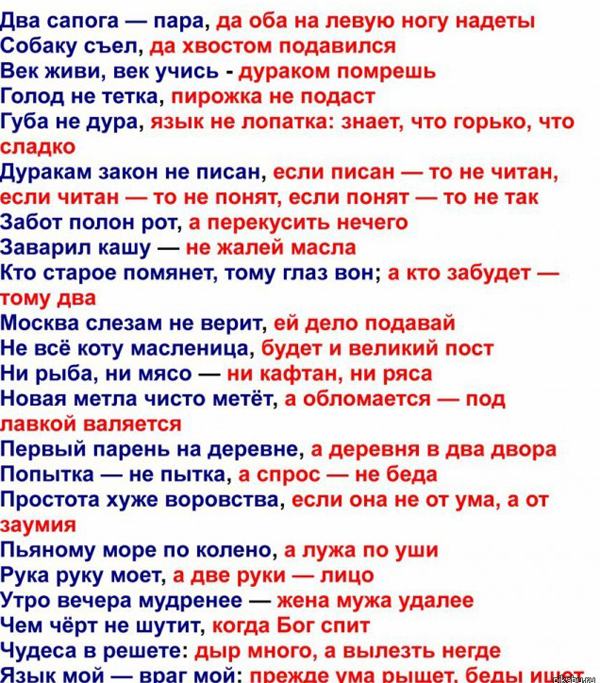
III. Пословицы у закарпатских русинов большею частью те же, что и у других русских; есть много и обще-славянских и обще-европейских. К этому роду отнесены могут быть и следующие:
Душа спати не ходитъ.
Кто до тебе зъ каменемъ, ты до его съ колачемъ.
Звоны ся хвалятъ по голосу, люди по бесѣдѣ.
За доброу хвилёу злу ждай.
Якiй панъ, такый мук крамъ.
Спомози сироти, укопле ти очи.
Убогого и галузя тягне.
Прибери пня, дай му имя, буле человикъ.
Лѣнивый двичи ходитъ, скупый двичи платитъ.
Бида человика найде, хоть и солнце зайде, и пр.
В числе этих пословиц есть и – До Бога далеко, до Царя – высоко.
Пословиц местных, сколько могу судить, немного, по крайней мере таких, которые успели стать в общем ходу. Вот несколько их, заслуживающих внимание, как свидетельства взгляда русинов на их соседей, вольных и невольных, и на самих себя:
Жидъ и молячи учитъ ся обманути.
Жидъ та ще жидъ, та жиденя, та волоське щеня, — такъ и ярмарокъ.
Душа та жидъ спати не ходять.
Волохъ у два роты: jедным исть, другимъ бреше.
Волоху дай: най, а винъ скаже: ищи.
Бида зъ бидоу ходитъ, а мадьяръ самъ по соби.
Прочто цыганъ клещи держитъ.
У цыгана три души: jедна у руци, друга у нози, третья по передъ jёго бижитъ.
Цыганъ розминюе правду на брехню, та зъ того и самъ сытъ и дитей кормитъ.
О себе самом и своих русин говорит:
Зъ горы далеко, на гору высоко; лучче ниякъ.
Жинка плаче, дити плачуть, самъ плачешь, а луччого не глядаешь.
У меня симья, то jедна; а у жинки симья, то друга; а у диток, то третья: а вси три въ jеднiй комирци jедноу лыжкоу идятъ.
Гуцульскый джепъякъ сито: прiйду много, выйду нитъ.

IV. Бахурки, маленькие анекдоты, составляют четвертый отдел произведений народной словесности русинов закарпатских, богатый, но менее всех других доступный для иноземцев и вообще для всех, кого русин не считает своим. Привожу один, может быть, более других понятный:
Пытаjе ся словак руснака: — чи ты не знаходивъ кобелю, въ ктерей боло полскаката, у каундюхи забарюха, плескатъ извязными трѣскатомъ? – А руснак: — я, брате, найшовъ jедну таистру, бывъ во ней печеный заяцъ, у кулати зоривка, богачъ извязаними батугомъ. – Такъ словакъ и кажетъ: — то не наша. – А руснак же ся вклонивъ, та й быв зъ отимъ.
 Русский след Русский след в мировой истории
Русский след Русский след в мировой истории